Как нынешний кризис, связанный с роботизацией, соотносится с более масштабной проблемой бредовой работы
Пуританство: маниакальный страх, что кто-нибудь где-нибудь может быть счастлив.
Генри Луис Менкен
В политической жизни богатых стран постепенно начинает преобладать взаимная ненависть между разными группами людей. Положение дел катастрофическое.
Мне кажется, что всё это делает как никогда актуальным старый левацкий вопрос: «Каждый день мы просыпаемся и коллективно создаем этот мир; но кто из нас, окажись он предоставлен самому себе, решил бы, что хочет создать именно такой мир?» Во многих отношениях то, о чем мечтала научная фантастика начала ХХ века, стало возможным. Мы, конечно, не можем телепортироваться или создавать колонии на Марсе, зато мы с легкостью могли бы изменить положение дел и сделать так, чтобы почти всё население Земли жило относительно легко и комфортно. С материальной точки зрения это не очень сложно. Хотя темп научной революции и технологических прорывов уже далеко не так высок, каким был в период приблизительно с 1750-х по 1950-е годы, развитие робототехники продолжается – главным образом за счет более эффективного применения существующих научно-технических знаний. Наряду с достижениями материаловедения эти открытия предвещают эпоху, когда мы действительно сможем избавиться от значительной части наиболее скучного и утомительного механического труда. Это означает, что работа изменится: она всё меньше будет напоминать то, что мы называем «производительным» трудом, и всё больше походить на работу заботы. Ведь забота – это как раз то, что мало кто хотел бы передоверить машинам [225].
В последнее время вышло множество пугающих книг, посвященных опасностям механизации. Большинство из них придерживается линии, намеченной Куртом Воннегутом в его первом романе 1952 года «Механическое пианино». С исчезновением большинства форм ручного труда, предупреждают эти критики, общество неизбежно окажется разделено на два класса: обеспеченную элиту, которая разрабатывает роботов и владеет ими, и бывший рабочий класс, измученный и несчастный, который будет проводить время за игрой в бильярд и выпивкой, потому что больше заняться ему будет нечем. (Средний класс распределится между ними.) Очевидно, что такая схема не только полностью игнорировала те стороны труда, которые связаны с заботой, но и предполагала, что отношения собственности невозможно изменить, а люди (по крайней мере, все, кто не пишет научную фантастику) окажутся совершенно лишенными воображения и, даже имея неограниченное количество свободного времени, не придумают себе никакого интересного занятия [226]. Контркультура шестидесятых поставила под сомнение вторую и третью предпосылки (а вот первую – не особенно). Многие революционеры шестидесятых использовали лозунг «Пусть машины выполняют всю работу!». Ответом на это стала новая волна морализаторства по поводу самоценности работы, с которой мы уже сталкивались в главе 6, – в то же самое время, когда многие производства стали выводиться в бедные страны, где рабочая сила была достаточно дешевой и машины не требовались. Именно в рамках этой реакции на контркультуру шестидесятых возникла первая волна менеджериального феодализма и чрезвычайной бредовизации работы, которая дала о себе знать в семидесятые и восьмидесятые.
Последняя волна роботизации вызвала такую же моральную панику и кризис, как и в шестидесятые. Единственное реальное отличие заключается в том, что поскольку никто больше не обсуждает возможность какого-либо существенного изменения экономических моделей, не говоря уже о режимах собственности, то просто предполагается, что одному проценту населения достанется еще больше богатства и власти; другой исход невозможен. В недавней книге Мартина Форда «Восстание роботов», например, рассказывается о том, как Кремниевая долина сначала делает ненужной работу большинства синих воротничков, а затем берется за медиков, преподавателей и представителей свободных профессий. Автор предсказывает, что это может привести к «технофеодализму». Он заявляет, что если рабочие окажутся без работы или обеднеют из-за вынужденного соревнования с машинами, то это вызовет серьезные проблемы – прежде всего потому, что если люди не будут получать зарплату, то чем они будут платить за блестящие игрушки и за услуги эффективных роботов? Возможно, я чересчур упрощаю содержание книги, но это позволяет подчеркнуть, что в подобных сценариях всегда кое-что отсутствует: они каждый раз предсказывают, что роботы заменят людей, и на этом останавливаются. Футурологи могут представить, что роботы заменят, например, редакторов спортивных изданий, социологов или агентов по недвижимости. При этом я еще не слышал, чтобы кто-нибудь из них заявил, что машина может выполнять основные функции капиталистов, которые состоят главным образом в поиске оптимальных способов вложения средств для удовлетворения существующего или потенциального потребительского спроса. Почему бы и нет? Можно без проблем попытаться показать, что советская экономика функционировала так плохо главным образом из-за того, что СССР не удалось разработать достаточно эффективные компьютерные технологии, чтобы автоматически координировать столь большие объемы данных. Но Советский Союз дотянул только до восьмидесятых; сейчас это было бы намного проще. И всё же никто не осмеливается сделать такое предположение. Так, в знаменитом оксфордском исследовании инженера Майкла Осборна и экономиста Карла Фрея семьсот две профессии были проанализированы с точки зрения того, насколько они подлежат роботизации: среди них были, например, гидрологи, визажисты и экскурсоводы, но вообще не обсуждалась возможность автоматизировать работу предпринимателей, инвесторов или финансистов [227].
Читать дальше
![Дэвид Гребер Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres] обложка книги](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-cover.webp)



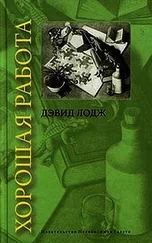

![Дэвид Эпштейн - Универсалы [Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни] [litres]](/books/387981/devid-epshtejn-universaly-kak-talantlivye-diletant-thumb.webp)
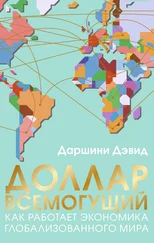
![Дэвид Льюис - Управление стрессом [Как найти дополнительные 10 часов в неделю] [litres]](/books/407457/devid-lyuis-upravlenie-stressom-kak-najti-dopolni-thumb.webp)
![Дэвид Вонг - В этой книге полно пауков. Серьезно, чувак, не трогай ее [litres]](/books/417031/devid-vong-v-etoj-knige-polno-paukov-serezno-chu-thumb.webp)


