За последние двадцать пять лет проведено более сотни исследований, в которых рабочие постоянно говорили, что их работа является физически изматывающей, скучной, ущербной, унизительной и малозначительной.
[Но в то же время] они хотят работать, потому что на определенном уровне они знают, что работа играет решающую и, может быть, даже исключительную психологическую роль в формировании человеческого характера. Работа – это не просто источник средств к существованию, но также один из важнейших факторов внутренней жизни… Тот, кого лишают работы, лишается гораздо большего, чем вещей, которые можно купить благодаря работе; он лишается возможности формировать и уважать себя [215].
После многих лет исследований этого вопроса Джини наконец пришел к выводу, что работа всё меньше воспринимается как средство достижения цели, то есть как способ получить ресурсы и опыт, чтобы развивать свои начинания (семью, политику, сообщество, культуру, религию – то есть неэкономические ценности, как я это называю). Работа всё в большей степени становится самоцелью. И в то же время большинство людей считают эту самоцель вредной, унизительной и гнетущей.
Как примирить между собой эти два наблюдения? Может быть, стоит вернуться к аргументу, предложенному мной в главе 3, и признать, что человеческие существа, по сути, являются набором целей? Исходя из этого, если у нас нет какого-то ощущения цели, то едва ли вообще можно сказать, что мы существуем. Безусловно, здесь есть доля правды: в каком-то смысле все мы находимся в положении заключенного, который предпочитает работать в тюремной прачечной, а не смотреть телевизор круглыми сутками. Однако есть еще одно объяснение, которое обычно игнорируют социологи: если работа является формой самопожертвования или самоотречения, то тогда само отвращение, которое вызывает современная работа, и делает ее самоцелью . Мы вернулись к Карлейлю: работа должна быть мучительной, ведь страдание, которое она приносит, «формирует характер».
Другими словами, рабочие приобретают чувство собственного достоинства и самоуважение именно потому , что ненавидят свою работу.
Как отметил Клемент, эта идея продолжает витать в воздухе, ею пронизана офисная болтовня. «От нас требуют оценивать себя и других на основании того, насколько усердно мы занимаемся тем, чем заниматься не хотим… Если ты не разрушаешь свое тело и разум посредством оплачиваемого труда, то ты живешь неправильно». Разумеется, так чаще считают офисные работники из среднего класса вроде Клемента, чем трудящиеся-мигранты на фермах, работники парковок или повара в заведениях общепита. Но такой подход можно наблюдать и в среде рабочего класса – он проявляется там в негативной форме. Даже те, кто не считает, что должны ежедневно оправдывать свое существование, хвастаясь, как они перегружены работой, всё же соглашаются, что тем, кто совсем не работает, лучше сдохнуть.
В Америке стереотипы о ленивых и недостойных бедняках долгое время были связаны с расизмом. Целые поколения иммигрантов учились быть «трудолюбивыми американцами», презирая воображаемую недисциплинированность потомков рабов (точно так же, как японских рабочих учили презирать корейцев, а английских рабочих – ирландцев) [216]. Сегодня медиа, как правило, вынуждены выражаться более тонко, но они не перестали очернять бедных, безработных и прежде всего тех, кто получает государственную помощь. По-видимому, большинство людей согласны с базовой логикой нынешних моралистов: общество обложили те, кто хочет получить что-то задаром; бедняки обычно бедствуют, потому что им не хватает силы воли и дисциплинированности для работы; и только те, кому хоть когда-то пришлось вопреки своей воле усердно заниматься чем-то, чего делать не хотелось (желательно под руководством сурового надсмотрщика), заслуживают уважения и внимания сограждан. В результате описанный в главе 4 садомазохистский элемент работы – это вовсе не неизбежный (пусть и уродливый) побочный эффект иерархий в организациях, а сама суть работы, смысл ее существования. Страдание стало признаком экономического гражданства. Жить без страдания – это примерно как жить без домашнего адреса: в его отсутствие у вас нет права чего-то требовать.
Круг замкнулся: мы вернулись к тому, с чего начали. Но теперь, по крайней мере, мы можем понять это явление в исчерпывающем историческом контексте. Бредовой работы сегодня становится всё больше в основном из-за особого менеджериального феодализма, который теперь преобладает не только в высокоразвитых экономиках, но постепенно захватывает все экономические системы мира. Бредовая работа вызывает отчаяние, потому что человеческое счастье всегда связано с ощущением того, что твои действия оказывают воздействие на мир; большинство людей, говоря о своей работе, выражают это ощущение на языке общественной ценности. В то же время они знают, что чем бо́льшую ценность для общества приносит их работа, тем меньше за нее платят. Как и Энни, они вынуждены выбирать между двумя вариантами. Либо ты выполняешь полезную и важную работу (например, заботишься о детях), и при этом тебе говорят, что твоей наградой должно быть чувство удовлетворения от того, что ты помогаешь другим людям, а где брать деньги, чтобы платить по счетам, – это уже твое дело. Либо ты соглашаешься на бессмысленную и унизительную работу, которая разрушает твой разум и тело просто так, по одной-единственной причине – потому, что господствует мнение, что если человек не занимается трудом, разрушающим его разум и тело (вне зависимости от того, есть ли смысл им заниматься), то он не заслуживает того, чтобы жить.
Читать дальше
![Дэвид Гребер Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres] обложка книги](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-cover.webp)
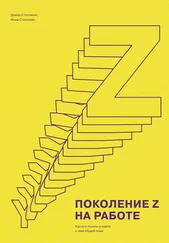


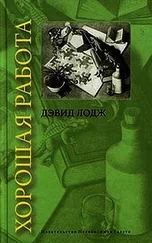

![Дэвид Эпштейн - Универсалы [Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни] [litres]](/books/387981/devid-epshtejn-universaly-kak-talantlivye-diletant-thumb.webp)

![Дэвид Льюис - Управление стрессом [Как найти дополнительные 10 часов в неделю] [litres]](/books/407457/devid-lyuis-upravlenie-stressom-kak-najti-dopolni-thumb.webp)
![Дэвид Вонг - В этой книге полно пауков. Серьезно, чувак, не трогай ее [litres]](/books/417031/devid-vong-v-etoj-knige-polno-paukov-serezno-chu-thumb.webp)


