Как в ХХ веке работа стала всё больше цениться в качестве способа поддержания дисциплины и формы самопожертвования
Мы продолжаем изобретать рабочие места из-за ложного представления о том, что все должны быть заняты каким-нибудь тяжелым трудом, потому что, согласно мальтузианско-дарвинистской теории, человек должен оправдывать свое право на существование.
Бакминстер Фуллер
Так или иначе, контратака «Евангелия богатства» оказалась успешной, и промышленные магнаты – сначала в Америке, а потом и во всём мире – сумели убедить общественность, что на самом деле процветание – дело именно их рук, а не рабочих. Однако их успех привел к возникновению неизбежной проблемы: как рабочие могут видеть смысл и цель в работе, на которой их фактически превращают в роботов? В работе, на которой им говорят , что они немногим лучше роботов, и при этом ожидают, что работа будет занимать всё больше места в их жизни?
Очевидное решение состояло в том, чтобы вернуться к старой идее, что работа формирует характер, – и судя по всему, именно это и произошло. Кто-то может сказать, что произошло возрождение пуританства; однако мы видели, что на самом деле эта идея относится к гораздо более раннему периоду, ко времени, когда христианское учение о проклятии Адама слилось с североевропейским представлением о том, что оплачиваемый труд под руководством мастера – это единственный способ стать по-настоящему взрослым человеком. Благодаря этой истории было очень легко убедить рабочих, что они трудятся не только и не столько для того, чтобы создавать богатство или помогать другим, но в целях самоотречения, что они надевают своего рода светскую власяницу, жертвуют радостями и удовольствиями для того, чтобы стать взрослыми людьми, достойными своих потребительских игрушек.
Множество современных исследований подтверждают этот вывод. Действительно, люди в Европе и Америке исторически не рассматривали свою профессию как то, что придает их жизни вечный смысл. Сходите на кладбище – вы вряд ли найдете надгробие с надписью «водопроводчик», «исполнительный вице-президент», «лесник» иди «клерк». Считается, что перед лицом смерти сущность земного бытия нашей души определяется любовью, которую человек испытывал к супруге/супругу и к своим детям и которую получал от них, – а иногда тем, в каком полку он служил во время войны. Всё это предполагает сильную эмоциональную вовлеченность, а также умение что-то отдавать и брать от жизни. При жизни же, напротив, всем этим людям при встрече, скорее всего, первым делом задавали вопрос: «Чем зарабатываешь на жизнь?»
Парадокс состоит в том, что так продолжается и по сей день, хотя «Евангелие богатства» и последовавший за ним рост потребительства должны были всё изменить. По идее, мы должны были начать верить, что наша сущность выражается посредством потребления, а не производства, что важнее, какую одежду мы носим, какую музыку слушаем и за какие спортивные команды болеем. Начиная с семидесятых годов люди должны были начать делиться на субкультуры фанатов научной фантастики, собаководов, любителей пейнтбола, торчков, болельщиков «Чикаго Буллз» или «Манчестер Юнайтед», но точно не на грузчиков и специалистов по анализу рисков катастроф. И на определенном уровне большинство из нас действительно предпочитает думать, что главное в нас – это что угодно, только не работа [214]. И всё же парадоксальным образом люди постоянно говорят о том, что работа придает главный смысл их жизни и что безработица оказывает разрушительное воздействие на психику.
На протяжении ХХ века было проведено множество опросов, исследований, обследований и этнографических описаний работы. Работы о работе стали своего рода небольшой самостоятельной дисциплиной. Эти исследования пришли к выводам, которые с незначительными изменениями справедливы в отношении как синих, так и белых воротничков практически по всему миру. Выводы можно обобщить следующим образом:
1. Чувство собственного достоинства и самооценка большинства людей тесно связаны с тем, как они зарабатывают себе на жизнь.
2. Большинство людей ненавидит свою работу.
Это можно назвать парадоксом современной работы. Вся социология работы, не говоря уже о социологии трудовых отношений, главным образом занимается тем, что пытается понять, как обе эти вещи могут быть верны одновременно. В 1987 году Эл Джини и Терри Салливан, два ведущих исследователя в этой области, писали:
Читать дальше
![Дэвид Гребер Бредовая работа [Трактат о распространении бессмысленного труда] [litres] обложка книги](/books/398863/devid-greber-bredovaya-rabota-traktat-o-rasprostra-cover.webp)
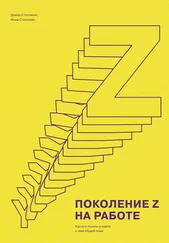


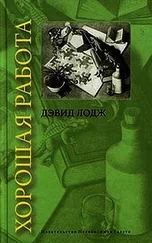

![Дэвид Эпштейн - Универсалы [Как талантливые дилетанты становятся победителями по жизни] [litres]](/books/387981/devid-epshtejn-universaly-kak-talantlivye-diletant-thumb.webp)

![Дэвид Льюис - Управление стрессом [Как найти дополнительные 10 часов в неделю] [litres]](/books/407457/devid-lyuis-upravlenie-stressom-kak-najti-dopolni-thumb.webp)
![Дэвид Вонг - В этой книге полно пауков. Серьезно, чувак, не трогай ее [litres]](/books/417031/devid-vong-v-etoj-knige-polno-paukov-serezno-chu-thumb.webp)


