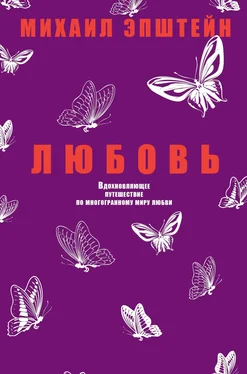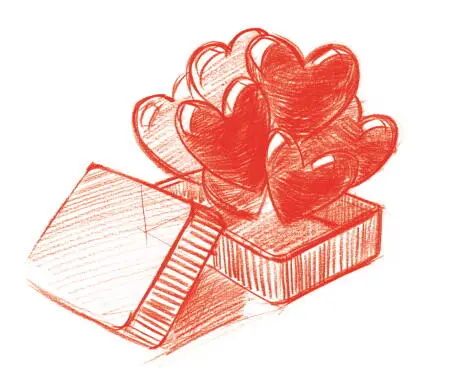Повтор любовного имени можно рассматривать одновременно и как чувственно-магическое овладение любимым, и как смысловое овладение миром посредством этого неиссякаемого, бесконечно множимого имени. Поскольку его невозможно истолковать, оно само толкует себя, повторяясь опять и опять и тем самым приближаясь к некоему искомому смыслу, который окончательно полагается уже внесловесно, жестом касания, соединения. Как заметил Пастернак, «стихия именуемости ошеломительней имени» 119.
Повторение имени не сводится к тавтологии, его значение переносится на какие угодно вещи и события, которые приобретают свойства «иринности» или «наташести». Вместо того чтобы определяться в именах нарицательных, собственное имя само начинает всё определять и переназывать. Вспомним стихотворение Давида Самойлова:
У зим бывают имена.
Одна из них звалась Наталья.
И было в ней мерцанье, тайна,
И холод, и голубизна.
Еленою звалась зима,
И Марфою, и Катериной.
И я порою зимней длинной
Влюблялся и сходил с ума.
И были дни, и падал снег,
Как теплый пух зимы туманной…
А эту зиму звали Анной,
Она была прекрасней всех.
Имя Анны или Натальи может быть присвоено не только зиме, но и звезде, и дереву, и дому, и окну, и какому-нибудь платью или свитеру, и городу, и месту, где происходили встречи, и дню, когда было особенно хорошо, и году, когда случилось знакомство…
Такова семантическая универсальность любимого имени. Именно потому, что значения имени нельзя определить, оно само приобретает власть все определять собой. Любовь семиотична и даже семиократична, то есть не просто превращает вещи в знаки, но и посредством этих знаков властвует над вещами, присваивает их себе, колдует с ними. Если же имя по какой-то причине непроизносимо или на него наложен запрет, то любовь начинает корчиться, как будто ей вырвали язык, она задыхается от невозможности звукового выдоха. «Слова любви, не сказанные мною, / В моей душе горят и жгут меня» (К Бальмонт. «Слова любви…», 1900).
Грамматическое умножение имени. Полиморфность
Но есть в личном имени еще и грамматическая универсальность. Оно может быть использовано в самых разных частях речи и грамматических категориях: не только как собственное имя – существительное, но и как нарицательное существительное, и как имя прилагательное, причем во всех степенях, включая сравнительную и превосходную, и как глагол – переходный и непереходный, возвратный и невозвратный. Все производные от личного имени не обязательно несут в себе любовную экспрессию – в устах третьих лиц они могут звучать нейтрально, описательно, насмешливо, иронически, скептически, недоброжелательно, даже презрительно. «Наш-то Ирке под каблук попал, совсем обЫрился. И нас заИрил , мы теперь у нее на посылках». Но существенна при этом сама способность языка производить от личного имени обозначения самых разных явлений, признаков, действий, так сказать, оличествовать мир.
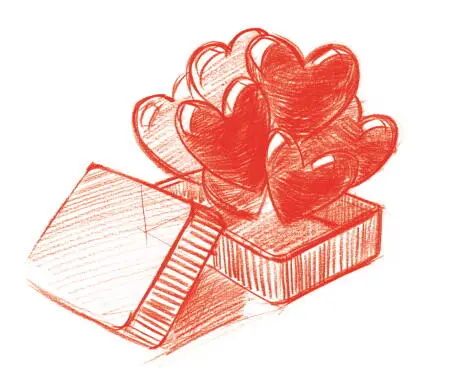
Собственно, это и есть любовь: не желать другому существу ничего, кроме того, чтобы оно было самим собой и чтобы его было больше в нем и во мне, любящем. Язык выражает эту самоцельность и самоценность личности морфологическим умножением ее имени, которое становится всем: и нарицательным существительным, и глаголом, и прилагательным. Если у существительных есть склонение – по падежам, а у глаголов спряжение – по лицам, то как назвать морфологическое изменение слова по разным частям речи, не внутри какой-то одной из них? Очевидно, имя собственное, трансформируясь в прилагательное или глагол, претерпевает важные морфологические изменения, хотя в лингвистике нет определенного термина для этого процесса. Можно назвать это трансморфной деривацией, , то есть словообразованием, проходящим через разные морфологические разряды, части речи. Иринство, иринчатый, иринствоватъ, иринно – это трансморфы имени Ирина, то есть его производные в других частях речи и грамматических разрядах.
Если в лексике есть понятие полисемии, многозначности слова, то в грамматику стоило бы ввести понятие полиморфии, многоформности корня. Многозначное слово имеет много значений, а полиморфный корень может производить слова в двух или нескольких частях речи. Например, корень – люб- полиморфен, от него образуются и существительное любовь , и глагол любить, и прилагательное любый, и наречие любо. И точно так же полиморфны, по крайней мере потенциально, все имена собственные. В этой главе мы как раз и описываем морфологическое умножение имени как назревшую возможность и потребность русского языка, которая нигде так сильно не ощущается, как в любовной речи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу