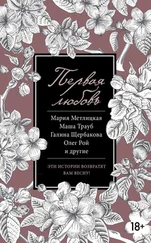Повесть “Первая любовь” Тургенева — вероятно, наиболее любимое из его собственных сочинений — произведение достаточно странное. Достаточно напомнить, что оно было почти единодушно критиками разных направлений сочтено “неприличным”, оскорбляющим основы общественной морали. И не только в России, но и во Франции, так что для французского издания Тургеневу даже пришлось дописать полторы страницы текста, выдержанного в лучших традициях советского политического морализаторства 30-х годов (мол, что только испорченность старыми временами могла породить таких персонажей, тогда как сегодня…)
Напомню фабулу этой повести: рассказ построен от первого лица, рассказчик — человек около 40 лет, записавший по просьбе своих приятелей историю своей первой любви, случившейся с ним в возрасте 16 лет. В деревне недалеко от Москвы, в родовом поместье, куда на лето приезжает он с родителями, сняла флигель обедневшая княжна. Её дочка, прекрасная и обаятельная девушка лет двадцати, и становится объектом первой любви подростка. Однако в дальнейшем выясняется, что счастливым соперником подростка является его собственный отец, светский лев и герой-любовник. Скандальной — и действительно весьма необычной для русской литературы середины века — является сцена, в которой подростку удаётся случайно подглядеть, как отец в гневе ударяет при свидании девушку плёткой по руке, и она целует с улыбкой и наслаждением огненный рубец. Окончание повести — вполне типичное для Тургенева: отец, а затем и девушка умирают, а рассказчик влачит апатичное существование, так и не разжёгши в себе более “пламень чувств”.
В основе повести лежит вполне реальная история, случившаяся с мальчиком-Тургеневым и его отцом. Что не избавляет нас от вопроса о литературной генеалогии данного произведения, от установления места сюжетных конструкций, созданных в данной повести Тургеневым, в системе литературных и культурных традиций. Тургеневу вообще не очень повезло с собственно литературным анализом его творчества: очень часто его произведения подвергают в той или иной мере социологической редукции, пытаясь вывести их из политических и социальных конфликтов его времени. В лучшем случае его произведения — и “Первую любовь” в том числе — пытаются втиснуть в рамки антитезы “Гамлет и Дон Кихот”, популярной в 30-50 годы в Европе и в России (Тургенев посвятил этой модной теме статью с одноимённым названием). Существует не так уж много попыток копнуть генеалогию тургеневских текстов поглубже. Между тем Тургенев был писателем чрезвычайно начитанным, вращавшемся в том же кругу, что и Флобер, и работавшим с литературным материалом весьма рефлексивно, с сознанием применяемых приёмов. В “Первой любви” эта намеренная “литературность” фабулы вообще вынесена на поверхность: споры романтизма и классицизма составляют важнейший элемент конструкции повести. В рамках данной работы я попытаюсь предпринять археологию некоторых наиболее существенных сюжетных конструкций “Первой любви”, которые, возможно, позволяют несколько шире взглянуть не только на Тургенева, но и на некоторые проблемы эволюции русской литературы первой половины 19 века.
“Первая любовь” — с этим для нас, особенно в сочетании с именем Тургенева (а значит, и с воспоминанием о “тургеневской девушке”),связаны представление о чём-то возвышенном, “романтическом”. А впрочем — романтическом и без кавычек, т. е. соответствующим тому, что покрывает в истории литературы термин “романтизм”. Что может быть более романтическим, чем первая любовь подростка, ещё находящегося целиком во власти возвышенных представлений о любви? Именно так и рисует повесть восприятие рассказчиком своего чувства. Само его исходное состояние, в котором веселая игра молодых сил сочетается с беспричинной грустью и слезами, его восприятие пейзажей как гор и долин (дело происходит в районе калужской заставы, так что необходима особая возвышенная способность созерцания, свойственная романтизму, чтобы найти здесь горы и долины), круг его чтения (“Разбойники” Шиллера, Софи Коттен, Вальтер Скотт (подросток воображает себя рыцарем на турнире), стихи о Кавказе (вероятно, Пушкина, но и его бессчётных подражателей) и т. п.) — всё это — расхожие штампы романтизма в русской литературе 20-30 гг.
Именно в контексте этого романтического настроя и размещается “призрак женской любви”: “Помнится, в то время образ женщины, призрак женской любви почти никогда не возникал определёнными очертаниями в моём уме; но во всём, что я ощущал, таилось полуосознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского…” (с.9). [1] Данная статья написана на основе доклада, прочитанного в марте 2000 год в г. Фрибурге (Швейцария) на коллоквиуме “Субъективность как приём”. Пользуясь случаем, хотел бы выразить организатору коллоквиума Игорю Кубанову свою признательность за стимулирующее участие в подготовке данного доклада.
Читать дальше