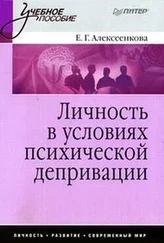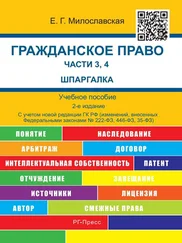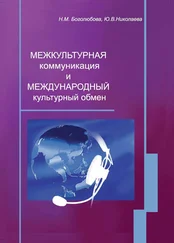Поскольку собственные интересы страны не могут быть исключены из системы ценностных ориентаций, свойственных ее акторам, в случае «заявки на всемирное представительство» без очевидных ссылок на национально-государственные приоритеты следует задаться вопросом о скрытых мотивах подобного «альтруизма»; а также о причинах такой скрытности. Вместе с тем интересы, которые стоят за лозунгом «Осчастливить человечество», не всегда остаются партикулярными. Есть ряд ценностей, в последние 100 лет заявивших о себе в качестве общих для всего человечества. Они проявились через осознание мировым сообществом наличия так называемых глобальных проблем. Среди них, в первую очередь, ценность жизни (витальное существование как таковое); ценность мира и соответственно ценность действенной политики и дипломатии; ценность экологической безопасности (ценность инновационных технологических решений, учитывающих эту проблему); антропологические ценности (демографическая оптимизация, сохранение социокультурного многообразия в условиях унифицирующих глобализационных тенденций и т. п.).
Демонстрируя существенную разницу между ценностными ориентациями, выражаемыми партикулярной (псевдодиалогической ) и общезначимой ( диалогической) коммуникативными стратегиями во внешнеполитическом диалоге, сравним позицию США по проблемам Ближнего Востока (или других нестабильных регионов, включая Косово и Донбасс) с их же позицией по вопросу о международном терроризме. В первом случае неявно, хотя и очевидно для всех присутствует аналитический расчет на дестабилизацию политической ситуации в стратегически важном нефтяном регионе. В целях «сохранения мира» ведутся войны; для осуществления «действительного диалога» навязывается инородная (и абсолютно чуждая арабам) модель политического устройства. Во втором случае ситуация совершенно иная: терроризм здесь уже не вывеска, а реальный факт, деструктивный по отношению к любой политической системе и к любому диалогу вообще. Поэтому борьба с ним выступает не в качестве ширмы, прикрывающей собственные экономические блицкриги, а в качестве задачи, решение которой имеет общечеловеческий смысл. Хотя, конечно, под лозунгами борьбы с международным терроризмом лидеры ряда стран укрепляют позиции своих силовиков и пытаются с их помощью расширять диапазон средств внутриполитического и внешнеполитического давления.
В теоретическом смысле данный пример помогает осмыслить одну из коренных особенностей ценности компаративного диалогизма в практике современной межкультурной коммуникации. Эта особенность состоит в том, что диалог как регулятивный (т. е. методологически значимый) принцип взаимодействия различных культур с точки зрения различий их ценностных систем (и соответствующих этим системам ценностных ориентаций их носителей) предполагает взаимные мутации систем ценностей, моделей поведения всех сторон-участников. (Впрочем, это совсем не означает попытку заставить партнеров «играть по своим правилам» силой или же добровольно-принудительно, что обычно происходит в ситуации партнерства, сопряженного с отстаиванием своей позиции как единственно достойной реализации).
С другой стороны, подобная ситуация довольно точно отражает специфику самой ценностной ориентации (разворачивания ценностей в поле социально-психологического взаимодействия): она задает исходные цели деятельности и методы решения поставленных задач, модулируя поведение на глубинном личностно и социально значимом уровне, а вовсе не штампует его однозначные шаблоны, гарантирующие полную реализацию исходных коммуникативных установок.
Важно помнить, что ценностные ориентации неоднородны по своему составу. В них по принципу дополнительности объединены эмоциональный и рациональный пласты.
То, что субъект принимает на уровне ratio , как правило, доступно вербализации и нередко составляет отчетливо формулируемое личностью credo . Вместе с тем значительная часть рациональной составляющей ценностной ориентации растворена в социокультурной практике в виде тех или иных текстов (сакральных, литературных, устного народного творчества; бытовых историй и даже анекдотов, пользующихся активным спросом аудитории); в виде памятников культуры и обычаев , имеющих отчетливое семантическое наполнение (искусство: архитектура, включая ландшафтную; изобразительное искусство, музыка, декоративно-прикладное творчество и др.; рационализируемые ценности «культуры повседневности» – основные нормы этикета, бытовые правила и т. д.). Все эти виды и результаты социокультурной деятельности в принципе могут быть внятно зафиксированы и описаны, а также, что весьма важно, могут быть обоснованы. Именно это и позволяет рассматривать их как вариант рациональной компоненты ценностных ориентаций. В современной культурологии принципиальная «рационализируемость» данных объектов нередко обозначается в таких терминах, как «идеологизация» или даже «идеологической ангажированность».
Читать дальше