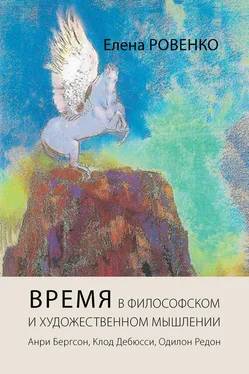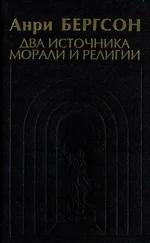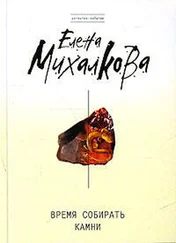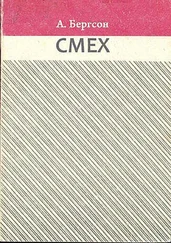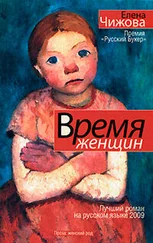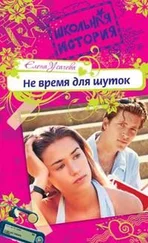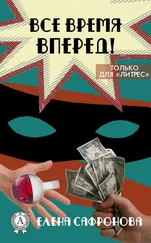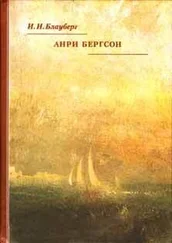Меняется прическа и костюм,
Но остается тем же наше тело,
Надежды, страсти, беспокойный ум,
Чья б воля изменить их ни хотела.
Слепой Гомер и нынешний поэт,
Безвестный, обездоленный изгнаньем,
Хранят один – неугасимый! – свет,
Владеют тем же драгоценным знаньем.
И черни, требующей новизны,
Он говорит: «Нет новизны. Есть мера,
А вы мне отвратительно-смешны,
Как варвар, критикующий Гомера!» [32]
Кстати, пронзительность приведенных стихов бесконечно далека от яркой экспрессии и неприкрытой обнаженности души поэта; пронзительность тут возникает исподволь, как потаенная интонация стихотворения, и связана она с постепенным усилением смыслового напряжения между провозглашаемым идеалом («неугасимый свет», «драгоценное знанье») и его непониманием (а то и предполагаемой профанацией). Такое смысловое напряжение в итоге формулируется в противопоставлении меры и новизны. Но нужно заметить, что, как и пронзительность лирической интонации, так и смысловая новизна вполне может быть скрытой под оболочкой вполне традиционной формы выражения. В таком случае новизна не противопоставляется возвышенному идеалу, а, наоборот, является его онтологическим коррелятом. Однако не о такой новизне идет речь в стихах Иванова, не о такой новизне говорилось выше и в этой книге, – а о самодовлеющей новизне средств и формы выражения. И, насколько смысловая новизна может не требовать новизны внешней, настолько же последняя бывает вовсе не обусловлена новизной художественного смысла. Такова, видимо, диалектика, присущая актуализации категории новизны в искусстве.
И все же, наверное, истинный смысл искусства выше всяческих поддающихся формулировке критериев, выше человеческих способностей постижения мира вообще. Не потому ли человек стремится к духовному самовыражению, что в идеале оно парадоксальным образом превыше любых его творческих возможностей? Фактически, и совершенство воплощения некоего замысла, и новизна форм этого воплощения (явления, конечно же, не однопорядковые) равно относятся к области способов актуализации высшего духовного смысла, не являясь им самим как, таковым.
И все же новизна по-прежнему остается заманчивой, более заманчивой, чем техническая виртуозность, поскольку дает ощущение видимого развития. Правда, множество философов, эстетиков, историков культуры не разделяют идеи прогресса в искусстве, имея на то все основания. «В определенные периоды искусство шло по пути выдвижения и решения проблем… Но… в искусстве нет прогресса как такового, поскольку любое продвижение в одном направлении сопровождается потерями в другом» [33], – считает исследователь. Если рассматривать движение в искусстве как ряд технических задач (пусть и обусловленных, например, эволюцией восприятия окружающего мира или мировоззренческими изменениями), – то, действительно, скажем, стремление к декоративности изобразительной плоскости будет противоречить идее иллюзорной трехмерности, а интеллектуальное удовольствие от конструирования серии – психофизиологическому удовольствию от разрешения доминанты в тонику.
В этом смысле Гомбрих абсолютно прав. Но, как мне кажется, неприменимость понятия прогресса к искусству [34]связана еще и с тем фактом, что эволюция средств выражения далеко не всегда неразрывно сопряжена с внутренней эволюцией содержания (художественного смысла). Более того: яркая новизна формы отнюдь не обусловливает напрямую новую конструктивность, новые принципы организации художественного целого. Крайний случай наступает, когда новизна стновится деструктурирующей и откровенно разрушительной (это касается как аспекта содержания, так и аспекта формы). Что это тогда? Инволюция вместо эволюции? Я не говорю сейчас о том, что вельфлиновские идеи во многом верны и что колебание историко-стилевого маятника между доминантами космоса (порядка, гармонии) и хаоса (беспорядка, дисгармонии или иного порядка) действительно имеет место. Я говорю о том, что дисгармония, отражающая внутреннее напряжение человеческой экзистенции, сменяется самодовлеющей дисгармонией, которая «сама себя продуцирует» ради себя самой и сама собой наслаждается. Онтологическая дисгармония стремится к самопреодолению в самопознании и, таким образом, к прояснению онтологического смысла и к его кристаллизации (ярчайший пример в изобразительном искусстве – творчество Ван Гога).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу