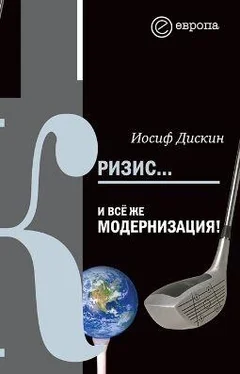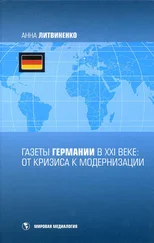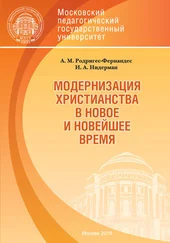Предоставим слово Константину Победоносцеву - неоспоримому идеологу этого царствования: «Россия была сильна благодаря самодержавию, благодаря неограниченному взаимному доверию и тесной связи между народом и его царем. Такая связь русского царя с народом есть неоцененное благо, народ наш есть хранитель всех наших доблестей и добрых наших качеств; многому у него можно научиться!» [39] Из дневника Е.А. Перетца // Революция против свободы. Сборник / Сост. Дискин И.Е. М., 2007. С. 173.
Кроме того, в работе Ахиезера, Клямкина и Яковенко игнорируются различия в содержании моделей деятельности на разных этапах отечественного развития. Ведь для ведущих культурологов вполне очевидно, что вечевая демократия, глубоко погруженная в традиционный мир, кардинально отличается по своим мотивам и способам принятия решений от модерной демократии, основанной на индивидуальном выборе, универсалистских ценностях. В свою очередь утверждение таких ценностей невозможно, как показывает история феодальной Европы, без этапа централизованной монархии. Универсалистские ценности на этом этапе становятся не только важным этическим регулятором, но утверждаются в качестве оснований для институционального функционирования.
Не следует абсолютизировать и мобилизационную специфику России. Признавая большое значение этой компоненты отечественного развития (значимость которой, впрочем, сильно менялась на отдельных исторических этапах), следует указать на вторичность этой характеристики. Выше мы уже отмечали тесную связь между следованием идеолого-телеологической парадигме, с одной стороны, и мобилизационным характером власти - с другой. Следование этой парадигме всегда влечет за собой мобилизацию. И здесь Россия совсем не уникальна. Каждый раз, когда где-либо начинали воплощать в жизнь идеологический проект, всегда за этим следовала мобилизация. Варьировалась лишь степень такой мобилизации, и в особенности - виды суперценностей, выступающих ее основой.
Так, например, социальная мобилизация периода посткоммунистического транзита стран Восточной и Центральной Европы была связана с суперценностью - национальным освобождением от «гнета Москвы». Многие современные проблемы в этих странах как раз вызваны тем, что мобилизационное напряжение снижается, начинается переход к рациональному осмыслению ситуации. Этим же обусловлены и попытки, проявляющиеся в ряде стран Восточной Европы, оживить увядшую суперценность, вернуть мобилизационное напряжение, уйти от необходимости решать накопившиеся новые проблемы развития.
Специфика российской модели
При анализе модели российской модернизации следует выделить специфическую особенность российской трансформации и модернизации - низкое значение этических оснований функционирования социальных институтов, связанных с ними моделей социального действия. В силу этого необходимо прояснить специфический характер социального функционирования, базирующегося на иных, прежде всего религиозно-идеологических, основаниях.
Много написано о сакральном характере российской, а затем и советской власти. Это вполне объяснимо с учетом доминирования идеолого-телеологической парадигмы. Но тогда требует объяснения необычайно высокий статус идеологии в нашей стране - именно он создавал предпосылки для идеологической мобилизации, массового энтузиазма, блокировавшего рациональный анализ ситуации.
Выше мы не раз обращались к классической логике: секуляризация, снижение роли религиозных ценностей вполне компенсируется ростом значения универсалистских ценностей. В большой исторической перспективе такое обобщение вполне правомерно. Но следует обратить внимание и на то, что все индоктринации Просвещения осуществлялись в отношении общества с глубоко укорененными религиозными традициями, и в результате был сформирован сложный синтез религиозных и модерных ценностей. Таким образом, несмотря на неизбежные кризисы, этические основания институциональной модели все же сохранили свою устойчивость, хотя одновременно сильно эволюционировали.
Сколько бы критики викторианской морали, включая великих Бернарда Шоу и Оскара Уайльда, ни издевались над этосом, жестко определявшим нормы поведения джентльмена, его наличие трудно отрицать. Хорошо известна статистика спасшихся при катастрофе «Титаника»: из пассажиров первого класса спаслись практически лишь женщины и дети, а среди пассажиров второго и третьего 80 процентов оставшихся в живых - мужчины. Нормы, довлевшие над «высшим» классом, были более значимы, чем даже инстинкт самосохранения.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу