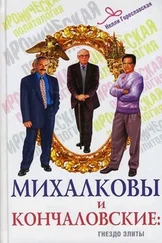Сценарный ход
Беда большинства наших сценариев (думаю, это не только мое мнение) в том, что в них никак не найден, не оформлен сценарный ход. Они просто рассказывают историю. Скажем, бригадир Петя Иванов встретил крановщицу Машу Сидорову, и они полюбили друг друга. И весь сценарий занудно иллюстрирует эпизоды взаимоотношений этих маловыдающихся персонажей. Причем вся эта история может происходить в наши дни, а может — двадцать лет назад, а может — сорок или пятьдесят: сути дела это не меняет.
И подобная аморфность сценария чуть ли не официально одобряется уже на стадии заявки. Драматург приносит на студию документ примерно такого содержания: “Хочу рассказать о героическом труде рабочего класса”. И все дружно начинают его хвалить за такое замечательное намерение. И утверждают заявку, и выплачивают аванс. А замысла-то в этом еще нет, и неизвестно появится ли он.
Недаром американцы за сценарную идею платят по нескольку десятков тысяч долларов, хотя это может быть всего страничка текста. Или того короче. Ну вот, хотя бы, для примера: после долгих злоключений влюбленные, наконец, соединились на палубе корабля. Камера панорамирует от их счастливых лиц к спасательному кругу, на котором написано название — “Титаник”.
Эти четыре строки — уже готовый сценарный ход, причем блестящий, послуживший основой для одного из прославленных фильмов мирового кино (для “Кавалькады” Альберто Кавальканти). Вести влюбленных через все долгие перипетии к “хэппи энду”, а затем короткой элементарной панорамой камеры уничтожить всю эту утешительную идиллию, которую так долго ждал зритель, и оставить его в состоянии оцепенения (ведь он знает судьбу “Титаника”, и понимает, какая участь ждет героев) — это ход.
В “Романсе о влюбленных” сценарный ход строился не на том, что герой уходил в армию, а девушка, не дождавшись его, выходила замуж — это не ход, это штамп, общее место, — а на том, что сталкивались два мира: мир счастливый, праздничный, увиденный глазами влюбленного, и мир, потерявший смысл, цвет, душу, — мир без любви. Каждый из этих миров был вполне завершенным, заведомо исключающим, отрицающим саму возможность другого. В сценарии словно бы сталкивались два совершенно законченных, самостоятельных произведения, авторской волей, объединенные в одно. Это и было для меня главным: стык миров.
Начало параболы
Чезаре Дзаваттини взаимоотношения сценариста и режиссера проиллюстрировал как-то следующим примером. Застенчивый юноша увидел прекрасную девушку, мечтал о ней, вздыхал, наконец, осмелился с ней заговорить, пригласил в кино. Через сколько-то там недель уговорил ее зайти к себе домой. Включил музыку. Вскипятил чай. Осмелев, поцеловал в первый раз. И вот тут-то пришел другой и увел девушку к себе.
Другой — это режиссер. То, что сценарист вынашивал, как мечту, как самое дорогое, он, уже в силу самой своей профессии, присваивает и начинает все изменять, ломать, кроить и перекраивать на свой лад.
С того момента, когда сценарии попадает в руки режиссера, и начинается движение параболы.
В принципе никакого стремления нарочно что-то кроить и перекраивать на свой лад у меня не было. Единственным, определяющим стремлением было, как можно глубже проникнуть в тот замысел, который Григорьев мне доверил, постараться поточнее его воплотить. Но он и я — два разных человека, две индивидуальности. Значит, уже неизбежно отклонение от замысла, уже ножницы: при всем своем желании я не мог сделать фильм, который был бы “не моим”. А, кроме того, были и объективные обстоятельства.
Что такое профессиональный сценарий? Это сценарий, который в ходе съемок не требует никаких переделок. И, прежде всего он должен укладываться в размер фильма, в его временную протяженность. Всегда лучше, когда сценарий несколько короче, чем потребно для фильма, особенно когда снимает его режиссер, способный наполнять пространство экрана своим видением.
Ну, например, написали мы в свое время вместе с Тарковским “Андрея Рублева”. Он уехал на съемки, а буквально через два-три месяца звонит мне в панике из Владимира. “Что делать? — говорит.— У меня материала на целую серию, а снял всего одну новеллу”. “Как одну?” — спрашиваю. “Не влезает, — говорит. — Все разрастается, как квашня на Дрожжах”. Прикинули — в том варианте сценария, который был напечатан в “Искусстве кино”, материала примерно на четыре фильма. А нам надо все уложить в двухсерийный метраж. И вот прямо на ходу мы начали резать по живому, выбрасывать куски. Вылетела целиком новелла, в которой Дурочка рожала на яблоках, вылетела новелла о чуме, вылетела прекрасная новелла “Голод”, описывавшая мор, уход мужиков из деревни. Уже было ясно, что все это нечего и снимать — все равно в картину не влезет.
Читать дальше

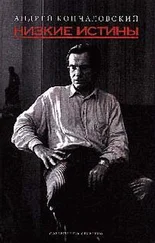
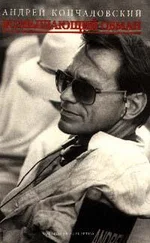
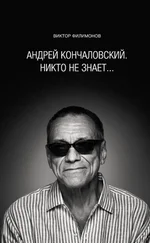
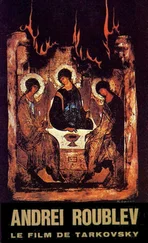

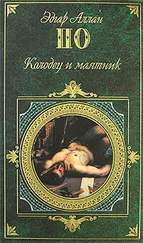

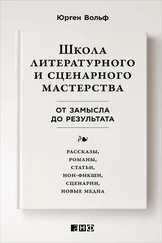
![Харуки Мураками - Возникновение замысла [litres]](/books/414460/haruki-murakami-vozniknovenie-zamysla-litres-thumb.webp)