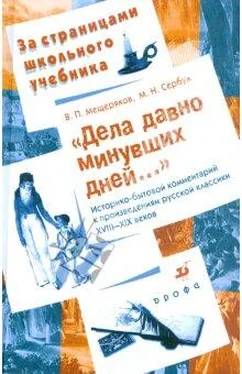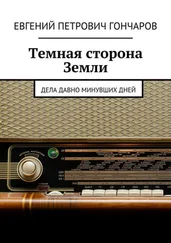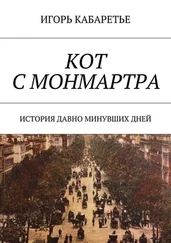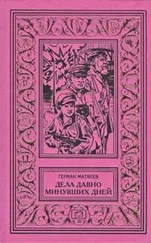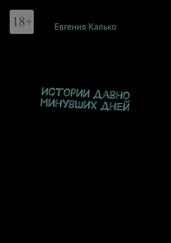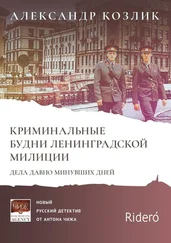Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно.
(«Евгений Онегин»)
Наполеон в XIX веке стал «символом и высшим проявлением всеевропейского эгоизма» (Ю.Лотман). Этот мифологизированный общественным сознанием еще при жизни исторический персонаж, в идеях и деяниях которого «ничего не лежало из любви к человечеству» (Ф. Достоевский), чрезвычайно важен для понимания теории и поступков Раскольникова. Для героя Достоевского именно Наполеон является главным авторитетом. Он поражает Раскольникова способностью пренебречь жизнями многих людей для достижения конечной цели – беспредельной власти над человечеством. Именно поэтому Наполеон для Родиона Романовича является подлинно необыкновенной личностью: «…настоящий властелин, кому все позволено, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, а стало быть, и все разрешено. Нет, на этаких людях, видно не тело, а бронза».
В своем «эксперименте» Раскольников примеряет на себя роль Наполеона. «… я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил…» – объясняет он Соне. Более того, он уверен, что если бы на его месте «случился Наполеон и не было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан», а была бы только «смешная старушонка, легистраторша», которую «для карьеры» надо было бы убить и ограбить, «то задушил бы так, что и пикнуть бы не дал, без всякой задумчивости».
Таким образом, один из главных мотивов «эксперимента» Раскольникова – это проверка себя на «бронзу» «сверхчеловека», способного во имя достижения поставленной цели шагать через трупы. Примечательно, что такой взгляд Раскольникова (и Достоевского) на Наполеона совпадает со взглядом Андрея Болконского (и Толстого). «Не только гения и каких-нибудь особенных качеств не нужно хорошему полководцу, – пишет автор «Войны и мира», – но, напротив, ему нужно отсутствие самых высших, лучших человеческих качеств – любви, поэзии, нежности, философского, пытливого сомнения. Он должен быть ограничен… Избави Бог, коли он, человек, полюбит кого-нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет». Этой формуле «сверхчеловека» отвечает и «Наполеон каторги» Вотрен, поучающий Эжена Растиньяка в романе «Отец
Горио» Бальзака (любимого автора Достоевского): «Принципов нет, а есть события, законов нет – есть обстоятельства; человек высокого полета сам применяется к событиям и обстоятельствам, чтобы руководить ими».
Итак, в теории Раскольникова изначально кроется неразрешимое противоречие. Не принимая позитивистского отношения к человеку, он в своем стремлении облагодетельствовать человечество руководствуется именно позитивистскими схемами и категориями. Возлагая на себя обязанности спасителя человечества, Мессии (Христа), он увлекается антихристианской идеей «сверхчеловека», которому «все дозволено».
Христианские идеи и образы в романе
Глубочайшему эгоизму обожествившей себя личности Достоевский противопоставил идею безраздельной и беззаветной, бескорыстно-жертвенной любви к людям, нашедшей свое окончательное воплощение в полной покорности Христа воле Бога. «Достигнуть полного могущества сознания и развития, вполне сознать свое я и отдать это все самовольно для всех… В этой идее есть нечто неотразимо-прекрасное, сладостное, неизбежное и даже необъяснимое», – писал Достоевский.
Единственный путь к обретению полноты и гармонии жизни, по глубокому убеждению писателя, лежит через страдание и сострадание: «Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием». Образ же Христа, воплотившего в себе земное страдание и духовное преодоление его, оказывается для писателя обещанием осуществления будущей гармонии.
О «направлении» своего творчества Достоевский говорил, что оно «истекает из глубины христианского духа народного». Высокий христианский идеал, по мнению писателя, уберегла тысячелетняя культура русского народа, противоположная западноевропейской буржуазной культуре собственников, цивилизации, ведущей к распадению масс на личности, у которых «вера в Бога …пала». «…Человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни…», он обречен быть рабом самого себя или мнимых кумиров, вождей, лжепророков.
Читать дальше