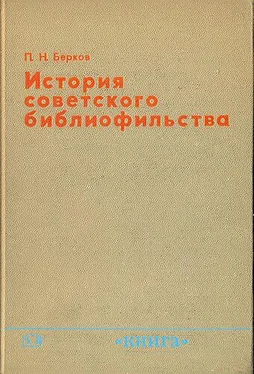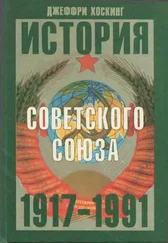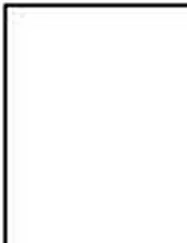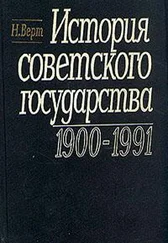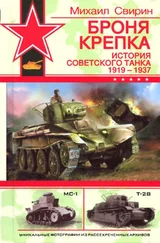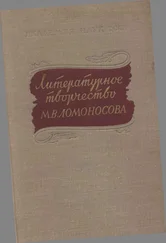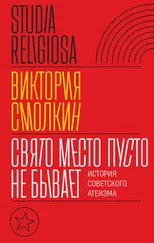Одновременно с РОДК была в Москве под эгидой Наркомпроса и лично А. В. Луначарского создана обширная Государственная академия художественных наук, в составе которой стала работать вначале специальная Полиграфическая секция, затем Библиологический отдел и Комиссия графических искусств. Двухтомник «Книга в России» (1924–1926), издававшийся в те же годы малотиражный журнал «Гравюра и книга» были в не меньшей мере органами этих отделов ГАХН, как и РОДК. Все более специальные, исторические или теоретические темы выносились в ГАХН, где сотрудничали В. Я. Адарюков, П. Д. Эттингер и пишущий эти строки; активно работавшие и в государственном и в любительском объединении молодой, рано погибший М. С. Базыкин и пожилой, бывший «протоколистом» РОДК, в дореволюционное время педагог (и стихотворец!) И. К. Линдеман. РОДК, с его дружескими еженедельными собраниями в Московском Доме ученых, носило характер «клуба», чуждавшегося дискуссий, зато устраивавшего регулярные выставки, литературные вечера, аукционы, выступления артистов. Зато доклады таких книговедов, как М. Н. Куфаев, искусствоведов, как Н. Н. Пунин, устраивались в ГАХН. Мало-помалу в литературной секции ГАХН сосредоточилась деятельность таких крупных московских ученых, как М. А. Цявловский и В. В. Вересаев. В. Я. Адарюков и пишущий эти строки равномерно делили свои труды между ГАХН, РОДК и (в последние годы десятилетия) Гравюрным кабинетом Музея изобразительных искусств.
Неполной осталась бы картина работы РОДК без краткого упоминания хотя бы двух очень красочных, характерных для Москвы и весьма противоположных фигур, страстных библиофилов. С одной стороны — это М. И. Щелкунов, в прошлом — наборщик, в годы революции ставший преподавателем и профессором, автор известного, бывшего для своего времени весьма нужным труда по истории книгопечатания. Автодидакт, страстно любивший старую (западную!) книгу, прямолинейно мысливший и неоспоримо добросовестный, М. И. Щелкунов в РОДК представлял как бы «демократическое» его крыло. М. Я. Шик, блестящий мастер поэтического перевода, полиглот, остроумнейший собеседник и вместе с тем великолепный знаток книги, составивший себе поразительную коллекцию французских романтиков, был весьма живым участником всех встреч РОДК, впоследствии работником антиквариата «Международная книга» — и перешел от собрания книг к филателии…
Вместе с тем — пусть это останется лучшею «концовкой» деятельности РОДК, — самое ценное, что удалось обществу совершить, было издание «Домика в Коломне» с оригинальными гравюрами В. А. Фаворского, одно из лучших «библиофильских» или просто художественных изданий тех лет.
Не надо, думается, делать еще какие-либо вставки в очень интересную, талантливо написанную рукою мастера картину развития общественного движения, посвященного книге в нашей стране. Вся книга П. Н. Беркова — хороший памятник пройденному участку пути общего нашего культурного развития.
Автор данного вступления хотел бы, чтобы эти его страницы были скромным венком на могилу крупнейшего советского друга книги в самом лучшем смысле — большого человека и ученого, Павла Наумовича Беркова…
Член-корреспондент Академии наук СССР А. А. Сидоров
Мне кажется, нет необходимости обосновывать право автора на написание «Истории советского библиофильства», в то время как «Истории русского библиофильства до 1917 г.» еще не существует. Собирая в течение многих лет материалы по истории русского книголюбия с древнейших времен до наших дней, я давно уже пришел к заключению, что история советского библиофильства богаче, интереснее и поучительнее и, несомненно, ближе советскому читателю-книголюбу, чем история библиофильства дореволюционного периода. Этим и объясняется то, что, нарушая хронологический порядок изложения, я написал данную книгу. Передавая ее в руки читателя, я считаю нужным сказать несколько слов о ее построении.
В центре моего внимания стояли не отдельные библиофилы и их библиотеки, как было бы неизбежно в «Истории русского библиофильства до 1917 г.», а именно библиофильство как общественное явление — библиофильские организации, их пропагандистская, научно-исследовательская и издательская деятельность, формы их работы, — научные заседания, обмен опытом, выставки, аукционы, книгообмен и т. д., предметы собирательства, библиофильские моды, материальная база советского библиофильства — антикварные и букинистические магазины, вообще книжная торговля, наконец, постепенно возникшая, развивавшаяся и достигнувшая значительного уровня библиофильская литература.
Читать дальше