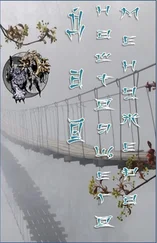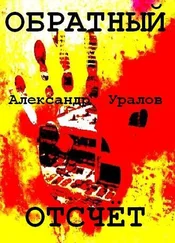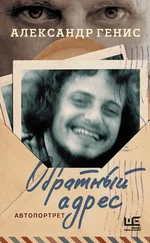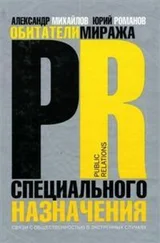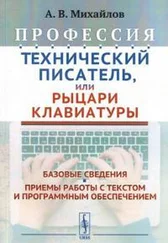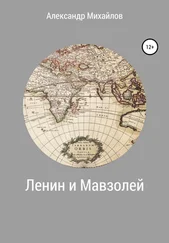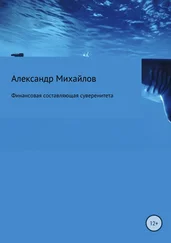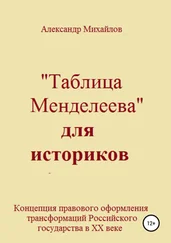Смешное — тут постыдно-необходимое, если попытаться одним понятием определить суть этого характеризуемого у Платона смешного; смешное тут связано со злом, а именно, со злом в его постыдно-непристойном проявлении, постыдное же и непристойное понимается в соответствии с теми правилами сословного благоприличия, которые, в переводе на язык дословной культуры Германии рубежа XVIII–XIX веков, определяли бы смешное как «nichthoffähig» и «nichttafelfähig», то есть как нечто такое, что нельзя допускать ко двору и нельзя допускать к столу. Но, быть может, ничто так красноречиво не показывает регулятивную функцию смешного, его роль образца «для избегания», как это скрываемое знание смешного у Платона. Выставляемое за двери благо
пристойного человеческого общежития, стремящегося подражать непеременчивому истинному закону, смешное тем не менее со своих непристойных низов пронизывает все здание позитивности, противопоставляя воплощаемой здесь идее свой невидимый образ. Вместе со смешным за двери выставляется жизненное многообразие, пестрота, всякая новизна неожиданного (kainon de aei ti peri ayta phainesthai ton mimëmatôn), всякая «информативность» — в противоположность вечно повторяющемуся и всегда единому хороводу подражаний «прекраснейшей и наилучшей жизни» (mimesis toy callistoy cai aristoy bioy, 817b). В этом смысле смешное дает невидимый образчик или образ, без которого, как и вообще без познания смешного, не может существовать даже и идеальное общество позднего Платона.
Именно в связи со всем этим отношением смешного и серьезного к пестрой новизне жизни в ее, так сказать, низко-непосредственном содержании и находится то обстоятельство, что в этом месте «Законов» Платон не столько противопоставляет трагедию и комедию, сколько и трагедию и комедию противопоставляет идеальному подражанию в своей поздней государственной утопии. И трагедия, как поэтическое создание, в глазах законодателя подозрительна как такое явление новизны, которое во всяком случае должно быть прежде всего сравнено, или сверено, с идеальными установлениями государства, с его «классицистической» нормой «подражания прекраснейшей и наилучшей жизни». Коль скоро пение, пляски, хороводы в этом государстве — не принадлежность отдельных искусств и не элемент художественного творения, а отражение идеальности, именно поэтому беспеременчивое, раз и навсегда утверждаемое, то они и не противопоставляются трагедии как театру. В трагедии Платон видит не художественную специфику, а этическую направленность: как комедия — это не просто смешное, и не просто сфера смешного, но непристойное, издевательское, безобразное культивирование смешного, когда наемные исполнители или рабы, как можно представить себе, купаются в этой родной им стихии, так трагедия есть культивирование прекрасного и возвышенного, всей сферы серьезного, величественного, торжественного. Но тогда сама жизнь идеального государства есть трагедия, протекающая по своим целесообразно, планомерно установленным законам; поэтому заезжим драматургам здесь отвечают так:
«Мы сами — творцы трагедии, наипрекраснейшей, насколько возможно, и наилучшей. Ведь весь наш государственный строй представляет собой подражание самой прекрасной и наилучшей жизни. Мы утверждаем, что это и есть наиболее истинная трагедия <���…> И эту наипрекраснейшую драму может привести к завершению один лишь истинный закон».
(Hëmeis esmen tragôidias aytoi poiêtai cata dynamin ho ti callistës hama cai aristës pâsa oyn hëmïn hë politeia xynestëke mimësis toy callistoy cai aristoy bioy, ho dë phamen hëmeis ge ontös einai tragöidian tën alêthestatên. <.„> toy callistoy dramatos, ho de nomos alëthës monos apotelein pephyken 817b).
Слово «драма» (to drama) значит «дело», «сделанное»: обращенное к практической жизни, оно соединяет реальность и ее поэтическое перевоплощение в трагедии совершенной жизни.
Возвращаясь теперь в Германию рубежа веков, столь недавнего прошлого, мы обнаружим, при всех коренных отличиях от этой греческой ситуации IV века до н. э., и некоторые общие черты культуры. Последнему не надо удивляться: общее — в той принципиальной широте и внутренней дифференцированности, с которой способна постигать немецкая философия и немецкая поэзия этого времени жизнь в ее широте и в ее глубинах, — что дано далеко не всякой эпохе. Для нас особый знак, которым отмечена эта эпоха, — в том, что боги поэзии Фридриха Гёльдерлина — это и не метафоры, и не условности риторического языка поэзии, и не стереотипные образы классицистического творчества, всякую минуту готовые к употреблению и находящиеся под рукой, и не опоэтизированные представления ученого мифолога, и не фантомы философствующего романтика, и не персонифицированные понятия занявшегося стихами философа, — но это особые реалии жизни и мысли, совершенно особенные символы, образы глубочайшего постижения жизни, образы, творящиеся по своему внутреннему и исторически-неповтори-мому закону, живые смыслы, не разделяющие в себе практику, философию, поэзию:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу