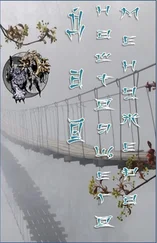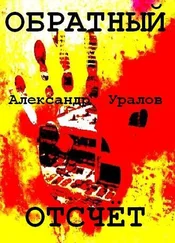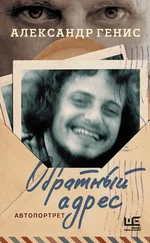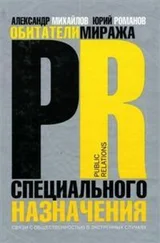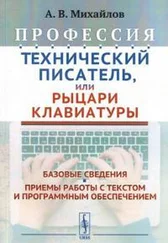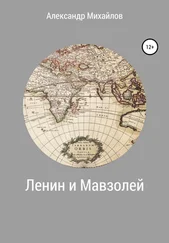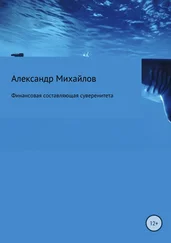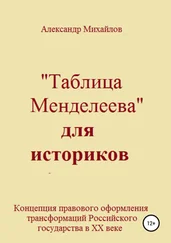Сравнение жизни с театром относится, вероятно, к числу вечных «общих мест»: поэты барокко уподобляют человеческую жизнь и трагедии, и комедии. Трагедия и комедия совпадают тут в понятии театра : история — зрелище, нреднамеченное как в общем своем протекании, так и в постоянстве этических характеров и разыгрываемых ситуаций. Театр барокко — по преимуществу трагический; комедия — отпадающая от него оборотная, тыльная сторона; комическое — как бы высшее свечение трагического, вспыхивающее в минуту его наивысшего напряжения; смешное — смех мученика, пред которым разверзлись небеса, над своими пытками и палачами, в час тягчайшего испытания, в час смерти. Теперь же, на рубеже веков, комедия способна поглотить всякое жизненное содержание, все святое уже осмеяно, и трагическое не раз возникает из пресыщенности иронией, игрой, издевкой, — так, жан-по-левский Рокероль — герой «Титана», нигилист и эстет уже в скромных и узких обстоятельствах вымышленного немецкого княжества, сочиненную, исполненную и поставленную им па природе трагедию завершает настоящим самоубийством. Конец спектакля совпадает с концом жизненного спектакля.
Данте свою поэму назвал «комедией», следуя правилам реторики, довольно своеобразно понятым, — этому, употребленному Данте, слову «комедия» пришлось претерпеть немало переосмыслений, чтобы обозначать у Бальзака универсальную полноту отражения жизненной реальности конкретного места и времени; универсализм — общее, что могло бы объединить средневековую поэму и романический цикл писателя XIX века; «комедия» — это теперь та жизненная пестрота, многообразие, универсальность реальности, что, как внутренняя форма, управляет конструкцией небывалого по своей монументальности цикла. Германия в начале XIX века не знает такого единого целостного замысла: романы Жан-Поля срастаются между собой побочными побегами, в своей совокупности описывая как бы целую забытую тогдашней многотомной «Географией» Бюшинга область Германии. Но сама эпоха склонна к такой — охватывающей всю жизнь — «комедии»: всеобъемлющее обыденное утверждает себя в жизни сквозь все трагические и героические усилия, несмотря на всю чрезвычайность происходящих событий. Можно быть глубоко и искренне потрясенным, как бывает потрясен человек в редкую минуту подлинным искусством, — но потрясен бывает и тот человек, что несет в своей душе восторг художественного, и тот, кого искусство способно было вывести из привычного равновесия обыденности, из равнозначности житейской апатии; эпоха рубежа веков, эпоха столь замечательной литературной революции, — это второй человек, человек достаточно скучный, хотя и не совсем потерянный и безнадежный, — но его инертность и апатия быстро растут, он утомляется и устает сам от себя; это такое старение, которое на протяжении 1805–1815 годов можно прослеживать с подробностью, год за годом. Эпоха Реставрации несет внутри себя глубокую утомленность.
«Des Menschen Tätigkeit kann allzuleicht erschlaffen, Er liebt sich bald die unbedingte Ruh» — «Деятельности человека слишком легко ослабевать, — он быстро привыкает к безусловному покою» — слова из «Пролога на небесах» гётевского «Фауста», написанные около 1800 года: в них не только выражение вневременной поэтической мудрости, но и подлинная психологическая наклонность конкретного исторического времени.
Различие барокко и новой литературной эпохи (начала XIX века) в том, что барокко уподобляет мир театру, новая, романтическая эпоха приравнивает мир к комедии. Как это вообще возможно, — приравнивать жизнь к театральному действию, отождествлять с ним жизнь, — показывает нам текст из цитированной седьмой книги «Законов» Платона, философа и писателя, до которого впервые, как XVIII век — до исчерпанного им до конца Ксенофонта, — дорастает европейская культура конца XVIII — начала XIX веков: в начале XIX века появляется первый новый немецкий перевод Платона, в котором современная филологическая критика текста соединяется с конкретным философским проникновением в него; перевод этот принадлежал Ф. Шлейермахеру,
Платон противопоставляет смешное (to geloion) серьезному (to spoydaion), он убеждает благородных людей не заниматься смешным серьезно (spoydën de peri aytaeinai mëdepotemëd’ hêtinoyn, 816e). Смешное решительно отставлено на задний план, как своего рода источник и образчик дурного и непристойного, как образчик, который одновременно и следует досконально знать, чтобы не сделать или не сказать чего-либо смешного по незнанию (toy mëpotedi’ agnoian drainé legeinhosageloia), и знание которого необходимо, как недостойное, тщательно скрывать (mëde tina manthanonta ayta gignesthai phaneron ton eleytheron, mete gynaica mete andra).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу