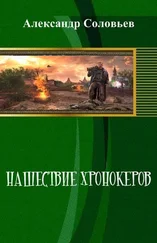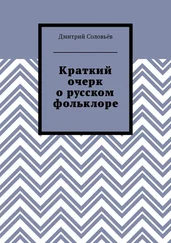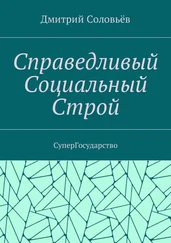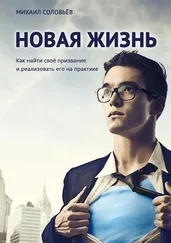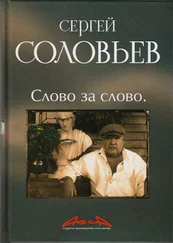— эпоху Французской революции и последовавшей за ней реставрации, когда абстрактные идеалы разума были потоплены в крови, но родилось упование на объективную разумность экономического и социокультурного процесса;
— время трагически-фарсовых революций 1848 года, отчетливо очертивших проблему ответственности политических партий за ход социальной истории;
— период первой мировой войны, наркотической стабилизации 20—30-х годов, установления тоталитарных режимов, когда потерпел крушение благодушный прогрессизм XIX столетия и во всю силу зазвучал вопрос о нравственной ответственности каждого человека за развитие политических событий.
Два материала посвящены истории отечественной мысли, которая интересует меня издавна, но все-таки (если не считать русской правоведческой литературы конца XIX — начала XX века) не вошла пока в сферу моих специальных исследовательских занятий. /17/
Все очерки, включенные в книгу, отвечают названию «Прошлое толкует нас», поскольку каждый из них в свое время появился на свет в качестве историко-философского отклика на известную актуальную проблему: каждый представлял собой попытку привлечь прошлое к интерпретации запутавшейся современности. Вместе с тем я не могу не предуведомить, что название это (как и всякое публицистическое клише), конечно же, не резюмирует содержания нижеследующих текстов и не имеет своей целью какую-либо патетическую настройку читательского внимания. Думаю, даже те, кто с презрением смотрит на «злобу дня», интересуясь историей просто как летописью прошлого, а философией как наставлением в надвременной жизненной мудрости, все-таки не пожалеют часов, потраченных на чтение этой книги. Очерки, в ней собранные, трактуют и известные вечные вопросы. Я обрисовал бы их с помощью четырех отсылающих друг к другу конъюнкций: религия и нравственность, нравственность и право, право и личность, личность и ситуация. Последняя тема является сквозной и, вероятно, нуждается в специальном методологическом разъяснении. Писать его заново, по счастью, нет необходимости: десять лет назад я уже высказался по данной проблеме в статье-рецензии, посвященной работе биографа. Пусть она и откроет серию очерков, приняв на себя функцию популярного методологического введения.
Но прежде позвольте сказать слова признательности.
Я хочу почтить память выдающегося журналиста 60—70-х годов Е.М.Богата, который первым разглядел актуально публицистический смысл моих статей и через «Литературную газету» привлек к ним внимание широкого читателя. Я пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность известному критику и литературоведу И. И. Виноградову, который откликнулся на мои очерки об экзистенциализме развернутой рецензией в «Новом мире» (в одном из последних номеров, редактировавшихся А. Т. Твардовским). Я глубоко признателен академику Т. И. Ойзерману, без твердой поддержки которого мои работы о Мартине Лютере и немецкой Реформации едва ли увидели бы свет. И, разумеется, я благодарен и Издательству политической литературы, предложившему мне опубликовать эти очерки как созвучные ныне совершающемуся процессу общественного обновления. /18/
Биографический анализ как вид историко-философского исследования
История философии — это не только обобщающая картина многовекового развития человеческой мысли. [12] Вопросы философии. 1981. № 7. С. 115–126; № 9. С. 132–143.
Это еще история отдельных философских течений, школ и проблем. Это, наконец, и история самих выдающихся мыслителей, драматичных творческих судеб, скрытых за великими концепциями и идеями. Самостоятельной и незаменимой формой научного исследования, с помощью которой постигается эта история, является биографический анализ.
Биография как жанр исторической литературы существует уже в течение семи веков. [13] Первой биографией в истории обычно признают «Житие Франциска Ассизского», составленное в середине XIII века францисканцем Бонавентурой. В отличие от жизнеописаний Плутарха и от статичной житийной литературы раннего средневековья это была попытка воспроизвести динамическую историю индивидуального духа, прошедшего через последовательные стадии становления (см. Бицилли П. «Элементы средневековой культуры». Одесса, 1919 г., с. 127–131).
Однако я затрудняюсь назвать хотя бы одно монографическое исследование, в котором прослеживалась бы долгая эволюция этого жанра и ставился бы вопрос о методологическом своеобразии работы биографа. Не лучше обстоит дело и с таким особым видом биографии, как жизнеописание выдающегося мыслителя. [14] Попытка обобщить соответствующий опыт была предпринята, пожалуй, лишь учеником Дильтея Георгом Мишем в его трехтомной «История автобиографии».
Читать дальше