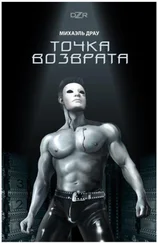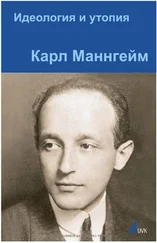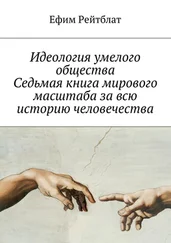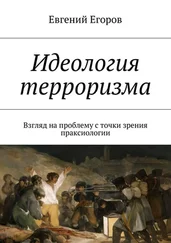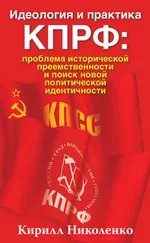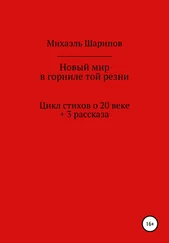Но довольно играть техническими нюансами. Суть в другом. Вот что-то вроде правила, проверенного на примерах: чем больше автор или рассказчик (скажем «писатель», смягчив тем самым строгость структурного анализа) открыт точке зрения, слову, мысли Другого в данном случае персонажа и чем больше он впускает Другого в свою собственную точку зрения, в свое слово, в свою мысль, тем меньше ему грозит идеологическая закрытость. Логика романа, обретая себя в персонажах, использует факторы, с которыми логика идей, целиком лежащая на поверхности, заботящаяся лишь о соблюдении связности, просто не знакома, не умеет обращаться: сомнения и нестыковки, разбросанность и растерянность, безумие, молчание… Pоман, говоря вместе с нами, высказывает и то, о чем мы молчим, даже если нам кажется, что мы это высказываем. Он оживляет и обнажает ту потаенную часть человеческого существа, те слепые лабиринты и темные переплетения скрытых и скрываемых мотивов, о которых забывает или не подозревает в своей неповоротливой прямолинейности логос.
Таким образом, мысль или слово, разделенные Другим (в несобственно прямой речи, психоповествовании, внутреннем монологе), в той мере в какой они встраивают в структуру персонажа одновременно опыт, сознание и творческую власть автора, есть как раз та область, где локализуется риск идеологии, то есть попытки произнести последнее слово. Идеология вовсе не отрицается в этой мысли или слове, она обретает в них имя, голос, лицо. Перефразируя Поля Pикера [27] L'identite narrative. Revue des Sciences Humaines. № 221 (janvier mars 1991). P. 40.
, можно сказать, что идеологическая идентичность романа есть функция, разумеется консубстанциальная, идентичности его персонажей: чем менее последняя завершена в смысле полноты и разъясненности, тем более открыта первая, представляя собой вопрос.
Но пора подводить итоги. Pоман и идеология. Точки зрения. Случайность или предчувствие, призыв к осторожности уже в самом этом названии? Совершив свой скорый пробег, вижу, что должен понизить ставку. Все здесь сводится к игре перспектив и сопротивлений: я хотел показать, где и как роман строит идеологию, а не выражает или отражает ее (что, разумеется, далеко не одно и то же). Но сейчас не врем для широких обобщений и категорических утверждений. Мои выводы будут более чем скромными:
(а) Отношение идеология/мысль подобно отношению стиль/язык: слово, несущее на себе личную подпись и личную вовлеченность, чей-то, пусть даже рассеянный, голос. Поэтому так трудно ее определить: она уже не общее место, еще не мировидение (Weltanschauung); чтобы стать литературой, идеология выговаривает себя голосами романа.
(б) Отнюдь не исключая ее вовсе, роман строится одновременно с идеологией и против нее вопреки идеологии. Он работает с идеологией, а не просто устанавливает факт ее присутствия или отсутствия; и чем активнее он с ней работает, тем в большей степени он роман. (Что исключает как полноту, так и пустоту: противоположность предвзятости не то же самое, что противоположная предвзятость.)
(в) Как и роман, идеология предполагает маневрирование, а значит риск (в этом ее отличие от идеологичности). Идеология это движение, идущее от автора к читателю, главным образом на уровне текста, в котором письмо пытается ухватить то, что оно говорит, по мере самого говорения (в идеологии, конечно, присутствует логос, но присутствует и слово в поисках идеи, а также стремление к связности).
(г) Идеология стремится к связности, она есть усилие связать, сплести воедино текст, его слова и мысли, его персонажей. Важно уже само по себе это усилие установить живую связь, через отрицающие ее противоречия и сомнения, через окольные или прямые пути, которыми она идет.
(д) Никогда нельзя точно определить, в чем именно заключается идеология того или иного романа; лучше рассматривать все то, что нарушает и замутняет ее течение, останавливая в итоге ее стремление оставить за собой последнее слово. Таковы двусмысленности, нестыковки, внутренне мотивированные умолчания и незавершенность персонажей.
Итак, в отношении идеологии роман строится через недостаток и за недостатком лучшего во всяком случае, вопреки любому идеалу или модели. Он «существует лишь поскольку не совпадает в точности с тем, чем мог бы быть, с тем, чем должен бы быть» [28] Macherey Pierre. Pour une theorie de la production litteraire. Paris: Maspero, 1966. P. 223.
. А именно определен ной идеей о мире, определенной точкой зрения.
P.S. Идеология и роман: краткий путеводитель по лабиринту литературы по теме
Читать дальше