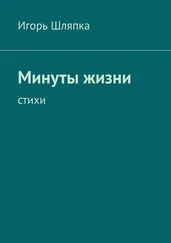Нравственная содержательность есть отличительная черта русской литературы... Я давно уже не читал на русском языке чего-либо русского, соответствующего адекватно литературе Толстого, Чехова и Достоевского. "Доктор Живаго" лежит, безусловно, в этом большом плане... Еще два таких романа, и русская литература — спасена" (письмо Пастернаку, январь 1954 г.). Через десятилетие, когда определились принципы его собственной прозы (достоверность протокола, очерка; проза, пережитая как документ), оценка сменилась на прямо противоположную: "„Доктор Живаго" — последний русский роман. "Доктор Живаго" — это крушение классического романа, крушение писательских заповедей Толстого. "Доктор Живаго" писался по писательским рецептам Толстого, а вышел роман-монолог, без "характеров" и прочих атрибутов романа ХIХ века" ("О прозе", 1965). Позднее автор "Колымских рассказов" скажет об этой традиции и об этом жанре совсем пренебрежительно: "Художественный крах "Доктора Живаго" — это крах жанра. Жанр просто умер" ("О моей прозе", 1971). Роман-монолог, между тем, — определение точное, близкое по смыслу пастернаковскому "моя эпопея". Оно может быть воспринято вне пренебрежительного смысла, приданного ему Шаламовым. В первоначальной оценке Шаламов использует еще одну неожиданную параллель, называя общепризнанный советский аналог пастернаковской книги ("советский" контекст романа обычно мало учитывается). "По времени, по событиям, охваченным "Д. Ж.", есть уже такой роман на русском языке. Только автор его, хотя и много написал разных статеек о родине, — вовсе не русский писатель. Проблемность, вторая отличительная черта русской литературы, вовсе чужда автору "Гиперболоида" или "Аэлиты". В "Хождении по мукам" можно дивиться гладкости и легкости языка, гладкости и легкости сюжета, но эти же качества огорчают, когда они отличают мысль. "Хождение по мукам" роман для трамвайного чтения — жанр весьма нужный и уважаемый. Но при чем тут русская литература?" Дело, однако, в том, что пренебрежительное определение "роман для трамвайного чтения" поздний Пастернак мог воспринять и как комплимент. "Всеволод (писатель Вс. Иванов. — И. С.) упрекнул как-то Бориса Леонидовича, что после своих безупречных стилистически произведений "Детство Люверс", "Охранная грамота" и других он позволяет себе писать таким небрежным стилем. На это Борис Леонидович возразил, что он "нарочно пишет почти как Чарская", его интересуют в данном случае не стилистические поиски, а "доходчивость", он хочет, чтобы его роман читался "взахлеб" любым человеком" (воспоминания Т. Ивановой). Пастернак, как видим, мечтал о таком читателе. Он, как поздний Толстой, пытается соединить высокую проблемность старой классики с максимальной доступностью и увлекательностью. В поисках ее он идет от того же Толстого с его "диалектикой души" назад, к суммарному психологизму, чистым типам, Карамзину и вниз, к роману тайн, к мелодраме. Автор "Доктора Живаго" пытается максимально сгладить границу между высокой, элитарной литературой и беллетристикой. С современным Пастернаку романом "о революции и гражданской войне" (теми же "Хождениями по мукам") "Доктора Живаго" сближает не только тема, но и способы связи большой истории и истории малой. Календарное время, время персонажей чем дальше, тем четче маркируется событиями грандиозно-историческими. "Вы подумайте, какое сейчас время! И мы с вами живем в эти дни! Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте: со всей России сорвало крышу, и мы всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать. Свобода! Настоящая, не на словах и в требованиях, а с неба свалившаяся, сверх ожидания. Свобода по нечаянности, по недоразумению, — исповедуется Живаго Ларе. — Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь-матушка, не стоится ей на месте, ходит не находится, говорит не наговорится. И не то чтоб говорили одни только люди. Сошлись и собеседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? ""Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования"" (ч. 5, гл. 8). Пафос недавно (1989) опубликованного стихотворения "Русская революция" (1918) оказывается весьма сходным: "И теплая капель, буравя спозаранку Песок у желобов, грачи и звон тепла, Гремели о тебе, о том, что иностранка, Ты по сердцу себе приют у нас нашла. Что эта изо всех великих революций Светлейшая, не станет крови лить; что ей И кремль люб, и то, что чай тут пьют из блюдца.
Читать дальше





![Игорь Сухих - От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова [litres]](/books/430444/igor-suhih-ot-slova-o-polku-igoreve-do-lermonto-thumb.webp)