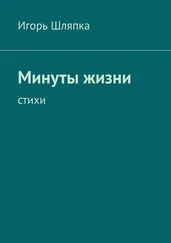Потому пятый год, декабрьские события в Москве воспринимаются как закономерное возмездие — не Комаровскому, а всему тому миру. "Мальчики стреляют", — думала Лара. Она думала так не о Нике или Патуле, но обо всем стрелявшем городе. "Хорошие, честные мальчики, — думала она. — Хорошие. Оттого и стреляют"... Пастернак точен. Мироощущение поколения на много лет раньше подтверждено и Мандельштамом, даже с использованием сходного образа мальчишеской игры: "Мальчики девятьсот пятого года шли в революцию с тем же чувством, с каким Николенька Ростов шел в гусары: то был вопрос влюбленности и чести ("Шум времени"). Уже в первых частях "Живаго" поэтика Пастернака нарушает каноны "хорошо сделанного романа", превращая его либо в плохой роман, либо в другой роман ("моя эпопея"). Поначалу Пастернак нарушает подчеркнутое заглавием единодержавие героя. Судьба Юры никак не выделяется и не подчеркивается на фоне жизни других героев. "200 страниц романа прочитано — где же доктор Живаго? Это — роман о Ларисе", — недоумевал В. Шаламов. Прочитав следующие двести страниц, он мог бы изменить свое мнение. Исчезнув в середине пятой части, Лариса Федоровна вновь появится в повествовании лишь в середине девятой. Вместо четких фабульных нитей повествователь предлагает читателю запутанный сюжетный клубок, "запись со всех концов разом", жизненный поток, в котором до поры до времени непонятно, кто будет за главного. "Теснота страшная, — описывала свои впечатления дочь М. Цветаевой А. Эфрон. — В 150 страничек машинописи втиснуть столько судеб, эпох, городов, лет, событий, страстей, лишив их совершенно необходимой "кубатуры", необходимого пространства и простора, воздуха!" Отмеченное А. Эфрон свойство "Живаго", когда герои "буквально лбами сшибаются в этой тесноте", можно назвать сюжетной плотностью текста. "Сюжетных тромбов", сжимающих повествование, придающих миру романа вид обжитой комнаты, в "Живаго" несколько десятков. Аналогии им находятся как в массовой беллетристике (случайные встречи и узнавания там — в порядке вещей, в конвенции жанра), так и, скажем, в толстовском эпосе (бывшие соперники Андрей и Анатоль на соседних операционных столах, раненый Андрей в доме Ростовых). В "Живаго" они становятся предметом писательской рефлексии. Связав тугим узлом четыре судьбы в одной фронтовой сцене (ч. 4, гл.10), повествователь заключает: "Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазетдин, кричавший в лесу офицер — его сын, подпоручик Галиуллин, сестра была Лара, Гордон и Живаго — свидетели, все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда. И одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи". "Судьбы скрещенья" определяет в "Докторе Живаго" "случай, бог изобретатель" (Пушкин). Другой, прямо противоположной сюжетной плотности и тесноте мира, особенностью оказывается его разомкнутость. Одни персонажи постоянно сталкиваются, как щепки в водовороте, другие тонут, исчезают навсегда без всяких мотивировок и объяснений. Жизнь — случайна, жизнь — фатальна: в романе, кажется, действуют обе эти закономерности. В пору работы Пастернака над книгой молодые писатели Литературного института в шутку противопоставляли две поэтики: "красный Стендаль" и "красный деталь" (воспоминания Ю. Трифонова). "Красный деталь", показ персонажа в действии, в колоритных подробностях, считался предпочтительнее, современнее суммарно, обобщенно, в авторской речи воссоздающего психологию героя "красного Стендаля". Повествователь в "Живаго" — "красный Стендаль". В ключевых точках сюжета рассказ преобладает над показом, прямая характеристика — над объективным изображением. "Ей было немногим больше шестнадцати, но она была вполне сложившейся девушкой, Ей давали восемнадцать лет и больше. У нее был ясный ум и легкий характер, Она была очень хороша собой. Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться своими боками. В противоположность праздным и обеспеченным, им некогда было предаваться преждевременному пронырству и теоретически разнюхивать вещи, практически их не касавшиеся. Грязно только лишнее. Лара была самым чистым существом на свете". В. Шаламов, один из первых читателей романа, начинал с предельных похвал, включая "Живаго" в большую и самую авторитетную "пророческую" традицию русской литературы: "Первый вопрос — о природе русской литературы. У писателей учатся жить. Они показывают нам, что хорошо, что плохо, пугают нас, не дают нашей душе завязнуть в темных углах жизни.
Читать дальше





![Игорь Сухих - От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова [litres]](/books/430444/igor-suhih-ot-slova-o-polku-igoreve-do-lermonto-thumb.webp)