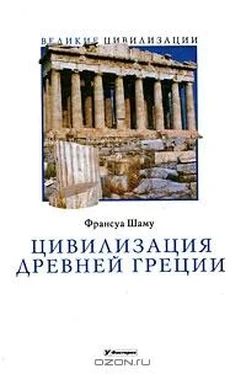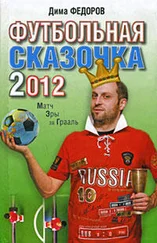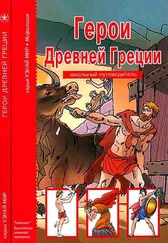Таким образом объясняется необычайная свобода критики, шедшая со стороны некоторых мыслителей с начала классической эпохи. В IV веке Ксенофан из Колофона, современник Пифагора, тоже обосновавшийся в Великой Греции (там он организовал в Элее, в Лукании, так называемую элейскую школу, которую прославляли Парменид и Зенон), высказал смелое предположение о том, что антропоморфизм является лишь естественным отражением человеческой ограниченности: «Если бы у быков, лошадей или львов были руки и они умели бы этими руками рисовать и создавать вещи, как это делают люди, лошади бы изображали богов похожими на лошадей, а быки — похожими на быков, каждый придавал бы божеству форму своего собственного тела». Или в другом месте: «Эфиопы утверждают, что у богов курносый нос и темная кожа; фракийцы же говорят, что у них голубые глаза и рыжие волосы». Отвергая антропоморфизм, если не сам политеизм, Ксенофан, считает, что все многообразие богов, если таковое существует, подчиняется одному божественному принципу, одновременно постоянному и неопределенному.
Позднее, в V веке, в Афинах Анаксагор из Клазомен, друг Перикла, был осужден за то, что усомнился в божественности небесных светил, публично заявив, что солнце — это пылающий шар, свет которого отражает луна: это открытие могло смутить легковерность населения в отношении гаданий по атмосферным знакам. Вот почему профессиональные гадатели, и в частности Диопейт, с пристрастием критиковали его, после того как народ принял декрет о том, чтобы предавать суду тех, кто не верил в богов или пытался разъяснять природу небесных явлений. Противники Перикла воспользовались этим, попытаясь задеть его через близкого человека: встревоженный Анаксагор покинул город. И все же афиняне в этот период, начиная с Алкивиада, не скрывали религиозного скептицизма, привитого примерами Анаксагора и Протагора, и их за это не преследовали. Чтобы вызвать возмущение государства в религиозной сфере, необходимы были либо политические причины, предлогом для которых служило неверие, либо реальное святотатство, например осмеяние Элевсинских мистерий, к которому был причастен Алкивиад, или избиение герм, вызвавшее гнев афинян накануне отъезда экспедиции в Сицилию. В этих случаях афинское правосудие выносило суровое наказание: оно преследовало Диагора Мелосского в 415 году за святотатство в отношении мистерий и назначило вознаграждение за его голову, после чего он покинул Афины. Из знаменитой речи Лисия известно, что суровое наказание ожидало каждого, кто ломал, даже случайно, одно из оливковых деревьев, посвященных богине Афине: Аристотель сообщает нам, что изначально закон предусматривал даже смертельную казнь. По народным представлениям, если виновный в осквернении не получал должного наказания, это вызывало божественный гнев, от которого могло пострадать все государство. Но намного серьезнее, чем инакомыслие, каралось преступление против гражданской солидарности.
Так было в случае с процессом по делу Сократа в 399 году. Если вспомнить, философ был обвинен в развращении молодежи, в неверии в богов полиса и во введении новых божеств. Обвинение было поддержано ничем не выдающимся молодым человеком Милетом, помощником политического деятеля Анита, который в течение нескольких лет до этого играл важную роль в демократической партии. Сократ был осужден 280 голосами против 220, трибунал состоял из 500 судей: для его оправдания не хватало 30 голосов. Для чего понадобилось осуждать мудреца, которого пифия назвала мудрейшим среди людей? Как объяснить решение правосудия, которое, после памфлетов Платона и Ксенофонта в пользу Сократа, легло несмываемым пятном позора на афинскую демократию? Рассмотрение обстоятельств процесса позволяет легко ответить на эти вопросы.
Порядочные граждане, составлявшие трибунал гелиэи, пародию на который вывел Аристофан в лице Филоклеона в своем произведении «Осы», включили, не без колебаний, в обвинение против Сократа жалобу о том, что его беседы и его дружба воспитали хладнокровных честолюбцев, из-за которых Афины страдали в течение пятнадцати лет: Алкивиада, инициатора губительной экспедиции на Сицилию, а затем искусного советника против собственной родины в Лакедемоне; Крития, циничного и алчного главы Тридцати, убитого афинянами после того, как он разрушил демократию. Отношения, объединявшие и того и другого с Сократом, были известны всем, и судьям было простительно перенести частично на учителя ответственность за ошибки, допущенные его учениками. Тем более что в годы своей молодости друзья Сократа не скрывали своих предпочтений, которые население Афин не склонно было разделять: предпочтение Спарты как полиса с лучшим управлением, нежели в Афинах; интерес к философии и диалектическое мастерство, которые они развивали по примеру своего учителя и которые давали им неоспоримое превосходство в диалогах, позволяя затмевать собеседника; свобода в суждениях, которая вкупе с их юношеским пылом позволяла пересматривать самые обоснованные истины; и наконец, что не менее важно, склонность к гомосексуальным отношениям — «дорийской» любви, распространенной в Лакедемоне, которую они охотно разделяли в своей небольшой группе, как это явствует из «Пира» Платона, и практиковали безо всякого стеснения. Типичный афинянин, как свидетельствует Аристофан, испытывал по отношению к этому пороку столько же страха, сколько и ненависти: помимо разнузданности духа и чувств, он видел в нем, не без причины, знак объединения в аристократическое «братство» с политическими намерениями, от которого демократия имела полное право защищаться. Все эти слишком самодовольные молодые люди, выходцы из самых богатых афинских семей, не вызывали никаких симпатий у тех, кто не принадлежал к их кругу. Враждебность, которую они вызывали, была перенесена на Сократа. Таким образом, обвинение в развращении молодежи имело серьезные основания: благодаря Ксенофонту и Платону, мы сегодня слышим другую сторону судебного процесса.
Читать дальше