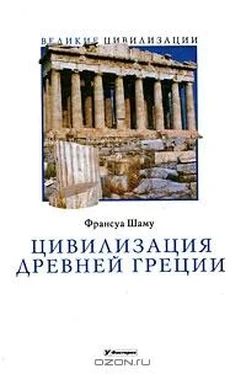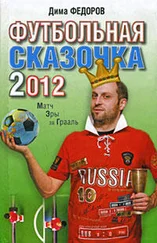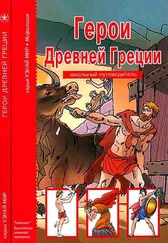Нам трудно представить, как такая манера изображения богов могла сочетаться с набожностью и благочестием, но, тем не менее, это так. В этом заключалось своеобразное народное общение с антропоморфным божеством, которое вовсе не удивляло античных авторов, за исключением особенно щекотливых или деликатных случаев. Для народного сознания было естественно, что божественная природа, оказавшись в человеческом обличье, заимствовала некоторые человеческие слабости. И благоговение перед грозной божественной мощью Бессмертных от этого ничуть не уменьшалось: поэтому над ними охотно и уверенно шутили на праздниках, им же и посвященных, если традиция это позволяла. Зато, если представлялся случай, комический поэт с особым пафосом обращался к богам полиса: «Хозяйка нашего города, о Паллада, о защитница этой святой страны, одержавшей верх над остальными своими войсками, своими поэтами и своей мощью, приди к нам и возьми с собой ту, что сопутствовала нам в военных походах и сражениях, — Победу!» Это цитата из «Всадников» Аристофана (стихи 581–589). В другом произведении того же поэта изображается честный крестьянин Дикеополис, празднующий сельские дионисии («Ахарняне» стихи 241–279): эта сцена представляет огромный интерес, поскольку позволяет увидеть, как выражалось народное почтение в этих деревенских ритуалах, из которых родилась аттическая комедия. Глава семьи, Дикеополис руководит церемонией, в которой участвуют все домочадцы: он возглавляет малую процессию, следуя за своей дочерью, несущей корзину с приношениями и исполняющей роль канефоры, и за двумя своими рабами, несущими над головой огромный фаллос, дионисийский символ. Он предлагает богу скромное некровавое жертвоприношение — лепешку с овощами. Затем он произносит молитву: «Повелитель Дионис, прими эту процессию, ведомую мной и эту жертву, которую я приношу тебе вместе со своей семьей! Позволь мне счастливо отпраздновать сельские дионисии!» И процессия отправляется в путь, между тем как Дикеополис поет фаллический гимн, а его жена наблюдает за ним с террасы их дома.
* * *
Драматические состязания, имевшие огромное значение для развития европейской литературы, являлись лишь особым видом соревнований, которые были распространенным явлением на религиозных греческих праздниках и играли существенную роль в общественной и моральной жизни эллинов. Эти состязания поначалу носили атлетический характер: музыкальные испытания, например, появляются позже. Первыми известными нам играми были те, что организовал Ахиллес в XXIII песни «Илиады» по случаю похорон Патрокла. В эпических легендах встречаются и другие похоронные игры: например, состязания в честь Пелия, царя Иолка, которые проводились в Фессалии и в которых участвовали многие известные герои, были изображены на знаменитой шкатулке Кипсела, которую тиран Коринфа посвятил Олимпии во второй половине VII века. Поэтому многие современные специалисты считают, что атлетические соревнования в Греции изначально были похоронным обычаем. Однако следует отметить, что в VII песни «Одиссеи» царь феаков Алкиной, пытаясь развлечь своего гостя Одиссея, предлагает ему спортивные состязания: в данном случае они не являются по своему характеру ни погребальными, ни даже религиозными. Однако бесспорно, что, как правило, греческие состязания организовывались в рамках священных церемоний. Игры были приурочены к самым разнообразным культам в греческом мире. Так, Пиндар, расхваливая достижения бегуна из Кирены в девятой «Пифийской оде», упоминает в числе знаменитых киренских игр состязания в честь Афины, в честь Зевса Олимпийского, в честь «глубокогрудой Земли», и это еще неполный список. Эти локальные игры позволяли молодым людям сойтись в разнообразных испытаниях, индивидуальных или командных. Иногда испытание имело характер чисто религиозного обряда: например, бег с факелом (или лампадедромии), известные в Афинах эстафеты с гроздью винограда (или стафилодромии), которые были частью карней в Спарте — праздника в честь Аполлона Карнея, бога земледелия. Но чаще всего речь идет о простых атлетических соревнованиях, во время которых молодежь оказывала почтение божеству своей силой и ловкостью. Уже у Гомера видно, что для греков победа в играх, как и на войне, зависела исключительно от божественного расположения. Человек мог делать все, от него зависящее, но решение было за судьбой и волей богов. В Олимпии, сообщает нам Павсаний, вблизи линии старта колесничных гонок устанавливались многочисленные алтари разным богам, в особенности мойрам, богиням судьбы, и мойрагету. «Совершенно очевидно, что это один из эпитетов Зевса, который ведал судьбами людей и знал, что им уготовано мойрами, а в чем им отказано» («Описание Эллады» V, 15,5). Этот факт — свидетельство общей для греческого менталитета черты: человек осознавал свои собственные достоинства, но он знал, что в любом предприятии есть доля случайности, которая может стать решающей. Этот элемент усмирял его гордыню и обнаруживал вмешательство сверхъестественной силы в людские дела. В атлетическом соревновании, по крайней мере в раннюю эпоху, до того как в нем стали участвовать профессиональные атлеты, просматривалось божественное вмешательство, придававшее ему благородство и величие: именно отсюда поэзия Пиндара черпает вдохновение.
Читать дальше