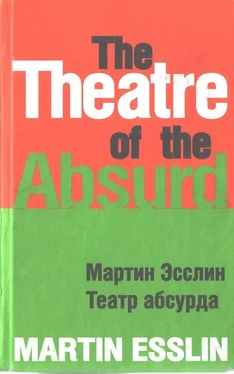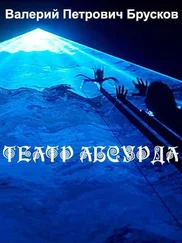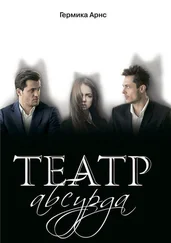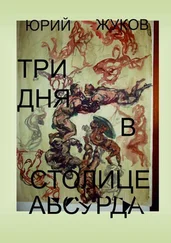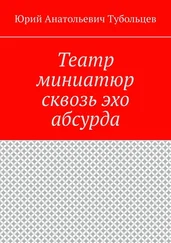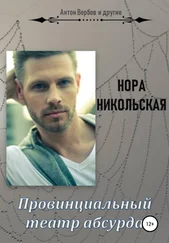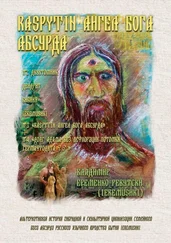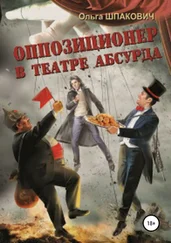Эти спектакли в маленьких театрах Парижа часто критиковали за небрежность и поверхностность; возможно, такие случаи имели место. Однако ни в одном другом городе мира, где много театральных людей первого ряда, не нашлось никого, кто бы рискнул, поняв, что необходимо бороться за постановку экспериментальных пьес новых драматургов, помочь им овладеть искусством сценической техники, как это делали Люнье-По, Копо и Дюллен и далее Жан-Луи Барро, Жан Вилар, Роже Блен, Николя Батай, Жак Макло, Сильван Домм, Жан-Мари Серро и другие, неразрывно связанные с продвижением лучшего в современном театре.
Не менее важен факт, что в Париже есть интеллектуальная публика, мыслящая и готовая принять новые идеи. Всё это не означает, что премьеры некоторых самых ошеломляющих феноменов театра абсурда не вызывали враждебного приёма или же не было пустых залов на первых спектаклях. Скандалы только подтверждали неравнодушие и интерес; даже в пустых залах встречались энтузиасты, которые могли оценить достоинства оригинальных экспериментов.
Однако, несмотря на благоприятный культурный климат Парижа и успех театра абсурда, пришедший к нему за короткое время, он продолжает оставаться одним из самых неизученных феноменов нашего века. Пьесы, странные и сбивающие с толку, абсолютно свободные от традиционных соблазнов хорошо сделанных пьес, менее чем за десятилетие достигли всех стран — от Финляндии до Японии, от Норвегии до Аргентины — и стимулировали основное направление в развитии театра, став мощным эмпирическим критерием значения театра абсурда.
Изучение его как явления литературной и театральной мысли нашего века должно продолжиться исследованием этих пьес. Их следует рассматривать в русле старой традиции, в которую необходимо погрузиться, чтобы проследить её с древних времен; анализ этого направления позволит традиции вписаться в исторический контекст. И тогда будет возможно оценить её значение и роль в структуре современной мысли.
Публика привыкла к общепринятым нормам, пропуская своё мнение о художественных экспериментах через фильтр критических статей, предвзятых ожиданий и референтных оценок. Таков естественный результат школьного образования, сформировавшего её вкус и восприятие. Что и говорить: прелестная схема ценностей! Она заводит в тупик сразу же, когда публика сталкивается с абсолютно новым и революционным явлением. Происходит битва с переменным успехом — между полученным впечатлением и мнением критиков, которое само по себе исключает возможность каких-то новых впечатлений. Новые явления всегда вызывают бурю досады и негодования.
Цель книги — дать точку опоры, которая поможет увидеть театр абсурда, его поэтику в таком ракурсе, чтобы он стал для читателя столь же актуален, как «В ожидании Годо» — для заключённых тюрьмы Сан-Квентин.
ГЛАВА ПЕРВАЯ. СЭМЮЭЛЬ БЕККЕТ. В ПОИСКАХ СЕБЯ
Мерфи, герой раннего одноименного романа Сэмюэля Беккета, в завещании высказывает пожелание, чтобы наследники и душеприказчики «положили его прах в бумажный мешок и отправили в Abbey Theatre, Нижняя Эбби стрит, Дублин… место, называемое благороднейшим лордом Честерфилдом пристанищем для отравления нужды, где протекли счастливейшие часы их жизни, и поставить мешок с его прахом справа от оркестровой ямы… и дёрнуть цепочку и спустить воду, по возможности, во время спектакля»1. Этот символический акт поистине в непочтительном духе антитеатра, но это и упоминание о месте, где автор «В ожидании Годо» получил первые впечатления о драматургии, которую он отверг, назвав «гротескным заблуждением реализма — скверным изложением, однолинейным и примитивным, низкопробной пошлостью, свойственной нравоучительной литературе»2.
Сэмюэль Беккет родился в Дублине в семье землемера в 1906 году. Как и Шоу, Уайльд и Йейтс, он учился в протестантской ирландской средней школе и, хотя позже он стал атеистом, тем не менее, получил почти квакерское воспитание,3 как однажды он сам высказался. Можно предположить, что интерес Беккета к проблемам бытия и самоидентификации начался с неизбежных и вечных, свойственных англо-ирландцу поисков ответа на вопрос: «Кто я?». Возможно, в этом и есть доля истины, но это далеко от абсолютного объяснения глубокого экзистенциального страдания, лейтмотива творчества Беккета, порождённого скорее чертами его личности, чем обусловленного социально.
Четырнадцати лет Беккета отправили в одну из традиционных закрытых англо-ирландских школ, Portora Royal School в Эннискилене в графстве Фермана. Школа была основана королём Яковом Первым, в ней учился и Оскар Уайльд. Творчество Беккета отражает его постоянные терзания и ранимость. О нём рассказывали, что «с самого рождения он хранил кошмарное воспоминание о материнской утробе»4. Тем не менее, он был популярен в школе, блестяще учился и превосходно играл в крикет, был полузащитником в регби.
Читать дальше