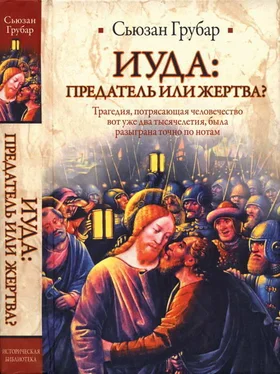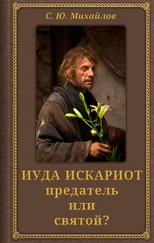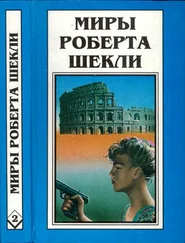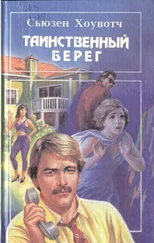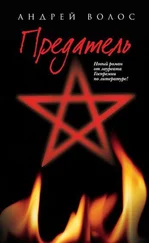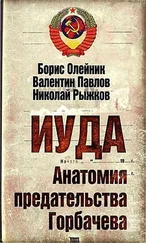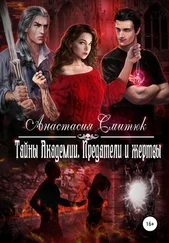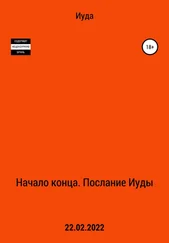На эту взаимозаменяемость добра и зла намекает версия Драмы Страстей Господних, предложенная Мелвиллом, — «Билли Бадд, формарсовый матрос», о чем подробно пишет Барбара Джонсон в своем эссе, прочтение которого помогло мне глубже понять проблему зла не только меллвиловского Клаггарта, но и Иуды.
Иуда-скептик мог также видеть в Иисусе и циничного идеалиста. Состояние «циничного идеализма», проявляющегося, когда люди сомневаются в правоте и необходимости своих действий, но скрывают свои сомнения под маской «хрупкой бравады идеалистического энтузиазма», описывает Линда Чарнс (Charnes, 2). Эту концепцию обсуждает в своей работе «Критика циничного рассудка» («A Critique of Cynical Reason») философ Петер Слотердайк.
Противоречивое, как и многочисленные воззрения на Драму Страстей Господних, зло чаще всего не ситуационно: безотносительно к тому, какой подход превалирует в том или ином толковании или на какие противоречия в Новом Завете этот подход опирается, решение или желание причинить вред редко трактуется как побочный результат антигуманных или авторитарных социальных систем, подобных тем, что описывает Стэнли Милгрим в своих угоднических статьях или Филипп Зимбардо в «Эффекте Люцифера». Несмотря на оккупацию римлянами Иерусалима, в истории Драмы Страстей редки суждения о том, что плохие поступки люди совершают под влиянием затруднительных обстоятельств или по принуждению (в условиях военной бюрократии или тюрьмы). В разных толкованиях причины зла называются разные: в одних — это личная предрасположенность к злу, объясненная психологией, в других они космические, значит, являются следствием сил, управляющих миром, в третьих — социально-этические, как результат столкновения разных систем ценностей. Не будучи побочным результатом, зло или причинение вреда обычно является средством, способом — человеческим или божественным — достижения некоего результата.
В стихотворении Кеннелли «Зона» Иуда сознает: «Я — один из тех, кто востребован больше всех», и хотя враги пытаются установить пограничную зону, «отделяя меня от моего искупителя, узы, / связующие нас будут крепки всегда, / невзирая на церковь, государство, истории о предательстве и убийство» (Kennelly 109).
Жирар расценивал воскресение невинного «козла отпущения», Христа, как прерывание цикла жестокости, выражающей сущность механизма преследования «козлов отпущения».
Двоение объясняет, почему история Иуды изобилует вампирами, куклами и животными. Катоптрофобию и «раздвоение» «духов, вампиров, оборотней» и пр. анализирует Роджерс (Rogers, 8-9). Как в Древнем мире, «зеркало служит инструментом разделения смотрящегося в него на видящего и видимого, отделения “я” от “меня”» (Bartsch, 23). Бартш добавляет по поводу зеркального отражения «себя»: «ни один из этих источников не предполагает, что кратковременное смещение тождественности объекта и субъекта в сознании приведет к постоянному самонаблюдению или самоосуждению» (23).
Я в долгу у Керан Сетии, чьи идеи оказали влияние на эту часть главы. Противопоставления подходов к трактовке роли и характера Иуды, приводимые в последующих трех параграфах, опираются на современную классификацию теорий морали и нравственности, разделяющую их на причинно-следственные, деонтологические и ценностно-этические. См. Kagan.
Подобно тому, как для партикуляристского философа, ставящего во главу угла частности, не существует двух совершенно одинаковых случаев, разнообразные последователи Марка, Матфея, Луки и Иоанна в своих сочинениях или визуальных портретах уделяют внимание разным подробностям и деталям. Каган считает партикуляризм «философски неинтересным» (Kagan, 185). Но что не интересно философу — избегание обобщений, определяющих благие и неправедные деяния, — обретает смысл и значение при рассмотрении проблемы в ракурсе нравственности и морали.
Более утонченные формулировки категорий этики ценностей предлагает Сетия (Setiya, 38, 67 и 70).
Взгляды Ницше на иудео-христианство в сжатой форме излагает Дроуолл (Drawall, 184-186). В ракурсе по существу еретической концепции Ницше Иуду, подчиняющегося не закону, но исключительно своей воле, можно трактовать как независимую личность.
Современную точку зрения на вопросы, затронутые Фрейдом в работе «По ту сторону принципа удовольствия», предлагает Фолкнер. См.: Faulkner.
Читать дальше