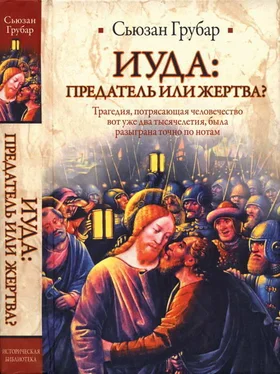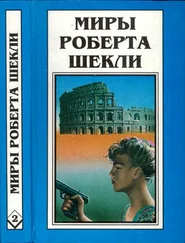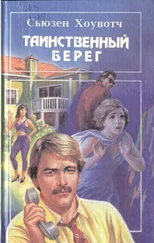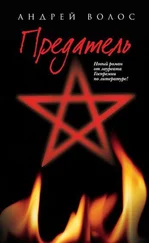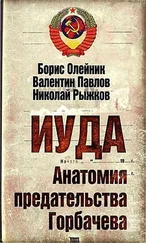Дупин Брелиха также постулирует империалистического Бога, который схоже размышляет об Израиле: «Какое значение имело безмерное разочарование маленького народа в сравнении с огромной выгодой, которую стяжал Он? К чему было беспокоиться о евреях, когда при посредничестве умело направляемых полицейских сил, Он мог победить и завоевать [народ] проклятый миллионами» (105). (Brelich, 105). Дупин также считает, что в Драме Страстей Господних Иисус «был послан скорее затем, чтобы спасти Отца, нежели человечество» (107).
Какой бы обескураживающей и кощунственной не казалась идея жестокого Бога, она восходит к древним гностикам, которые видели в библейском Боге не истинное божество, а невежественного, кровожадного глупца, повинного во всех несчастьях и бедах людей. И хотя Казандзакис и Сарамаго по-разному трактуют Драму Страстей, греческий писатель также использует идеи гностиков, когда изображает Иуду помогающим Иисусу освободиться от физического тела, не позволяющего Тому слиться с божествен-ным духом. Идеи гностиков о божественном излагает Мейер в своем эссе «Связь Иуды и гностиков» (The Gospel of Judas, 137-169).
Осуждение Сарамаго жаждущего крови Бога напоминает атаку Евангелия от Иуды на лжерелигию одиннадцатого апостола, основанную не на учении Иисуса, которое понимает единственно Иуда, а на требовании Богом человеческой жертвы. Пейджелс и Кинг видят в «Евангелии от Иуды» яростную атаку на тех христиан, которые утверждали этику мученичества и самопожертвования.
Казандзакис также подвергает сомнению достоверность Евангелия от Матфея, живописуя в своем романе, как Иисус, читая свидетельства Матфея о Своих деяниях и словах, только восклицает: «Ложь! Ложь! Ложь!» (Kazantzakis, 391).
Возможно, оправдание Иуды в «Последнем искушении Христа» отражает широко распространенное мнение о связи изгоя Иуды и «окончательного решения», а также последовавших за тем акций геноцида, религиозных войн и этнических конфликтов, хотя еврейский президент МСА, Лев Вассерман, был подвергнут суровой критике за «разжигание антиеврейских настроений разрешением показа фильма Скорсезе» (Tatum, 181).
Фелстинер обсуждает этот феномен на примере стихотворения Поля Келана; я же прослеживаю его, анализируя стихи современных поэтов, пишущих на английском языке (227-240).
В «Деле о предательстве» Брелиха Дупин отвергает подобное предположение о манипулирующем Иисусе, как порочащее Его имя: самая мысль о том, что Иисус мог «изменить, изуродовать человеческое существо в личных целях, обрекши его на вечное проклятие и презрение последующих поколений» ставит под сомнение нравственность Иисуса (Brelich, 129). Подобные святотатственные утверждения не высказываются прямо и в «Последнем искушении Христа»; Казандзакис нивелирует их, акцентируя активную роль Иуды и опасения Иисуса.
Иуда Моссинсона поясняет: «Иисус отказался сообщать, кому выпал несчастный удел выдать Его. Он просил Варавву не раскрывать истинной правды доносчику. Если бы я знал, что Иисус желал быть распятым, чтобы послужить импульсом к восстанию, к началу мятежа, и его замученное тело должно было послужить топливом для разжигания огня, я бы отказался исполнять приказ» (Mossinsohn, 189). В любопытной и противоречивой «альтернативной истории» Моссинсона уцелевший Иуда упорно твердит своим близким, что он — предатель. Однако большинство из них продолжают считать, что «Иуда Искариот — Каин» (201). Когда же Иуда встречает Павла и просит его «Зови меня Иудой», тот лишь называет его безумцем, потому что Иуда «уже покончил с собой в Иерусалиме» (285). Ощущение свершения преступления, сопровождающее предательство, обсуждает Джексон.
Шонфельд более уважительно трактует намерения Иуды. Ведь при помазании Иисус пошел на «хитрость, чтобы оказать давление в критический момент и заставить изменника действовать» (Schonfield, 135). Эпизод помазания убедил Иуду — не раз слышавшего, как Иисус говорил о том, что предательство и смерть Его неизбежны — в том, что «Иисус ждет, чтобы Его предали» (135).
Двенадцатый апостол, огорченный тем, что он согласился с той ролью, что отвел ему повествователь «Времени для Иуды», убивает себя, потому что он поддался искушению разгласить истинную историю, которую надлежало предать «забвению и тайне» (185). По иронии, Иуда Каллигана вешается из-за того, что «рассказал правду» (Callaghan, 196).
Читать дальше