Выступая в роли Шейлока в «Венецианском купце» Шекспира, Любский строил игру на контрастах и «вообще обращал шекспировского героя в мелодраматическую фигуру» [19] «Русские ведомости», 1916, 11 октября.
.
Последняя встретившаяся нам рецензия, касающаяся Любского, относится к 1898 году, когда артист гастролировал в Саратове в Народном театре. Эта рецензия, пусть коротко, но подводит некоторые итоги деятельности последнего трагика старой школы.
На этот раз артист играл Русакова в пьесе Островского «Не в свои сани не садись», играл, как и всегда, неровно. И успех у зрителей Любский имел очень большой. Рецензент не без горечи писал: «Какую силу потерял русский театр в этом артисте. Какой большой талант брошен и зарыт […]. Лет пять тому назад мы видели г. Любского в «Гамлете», на положении того же случайного гастролера и никогда не забудем несколько фраз, брошенных им в публику со стихийной силой природного таланта» [20] «Театр и искусство», 1898, № 39, с. 693–694.
.
Таков был этот удивительный феномен русской сцены — Анатолий Клавдиевич Любский, о котором не вспоминают даже в самых подробных курсах истории русского театра. Но, право, он оставил, пусть маленький, след в искусстве, восхищал и поражал зрителей своего времени, отстаивал высокие идеалы искусства так, как он их понимал.
 Братья Роберт Львович (1860–1934) и Рафаил Львович (1861–1938) Адельгейм были известны всей России. Они выступали чаще всего вместе и в губернских городах, и в самых отдаленных и глухих углах страны. Почти ежегодно братья гастролировали в Петербурге и Москве.
Братья Роберт Львович (1860–1934) и Рафаил Львович (1861–1938) Адельгейм были известны всей России. Они выступали чаще всего вместе и в губернских городах, и в самых отдаленных и глухих углах страны. Почти ежегодно братья гастролировали в Петербурге и Москве.
Очень высоко оценивая гастрольную деятельность трагического актера М. В. Дальского, известная провинциальная актриса М. И. Велизарий вместе с тем писала: «Пожалуй, одних только братьев Адельгейм Россия знала больше, чем Мамонта Дальского» [21] Велизарий М. И. Путь провинциальной актрисы. — Л.—М.: Искусство, 1938, с. 171.
.
Их называли счастливыми гастролерами. Где бы ни шли спектакли с их участием, сборы по большей части бывали полными. И когда после Октябрьской революции, в 1927 году, братья приехали в Ленинград, публика охотно заполняла зал Театра комедии, в котором они выступали, хотя артисты к тому времени успели состариться.
Особое внимание общественность обращала на их культуртрегерскую деятельность, на пропаганду лучших классических образцов драматургии.
Известный театральный критик А. Р. Кугель объяснял успех братьев следующим образом: «А секрет был весьма прост. В то время, как наши актеры, все еще верные теории мочаловского «нутра», полагались на «авось» и на пришествие некоего «духа», который в нужный момент осенит их своей благодатью — а «дух» сплошь и рядом не являлся по разным, причинам и оставался актер, дурно знающий свою роль, в то время говорю я, братья Адельгейм работали по-немецки точно.
Эта немецкая школа — школа Сальери — ремесло кладет подножием искусства и ремесло вырастает в мастерство […]. Жест изучался перед зеркалом — ежедневно и непрерывно. Роль была разделана во всей полноте и во всех подробностях. Стиль затверживался, как урок. Все это давало свои плоды» [22] Кугель А. Ленинградские заметки.—«Рабис», 1927, № 44, с. 13.
.
Здесь приведена обширная цитата, потому что она как кажется, в основном верно определяет успех Адельгеймов.
Это были талантливые артисты: Роберт Львович — герой и Рафаил Львович — больше склонявший к характерности, но также игравший и героические роли. Ни тот ни другой обладали из ряда вон выходящими дарованиями, однако они оба могут быть названы тружениками в самом высоком смысле этого слова.
Большую часть дня, вне зависимости от того, шел ли вечером спектакль с их участием или нет, они отводили подготовке к сценическому выступлению. Дисциплина была выработана железная: никаких бесед за полночь. Ежедневные физические упражнения, в том числе фехтование. Ежедневная работа над голосом. Ежедневное повторение той или другой роли. Обязательное чтение книг, относящихся к театру, на русском, немецком, французском и английском языках.
При очень большой, даже изысканной вежливости по отношению к товарищам по труппе никакого с ними амикошонства. Молчаливые, особенно Роберт Львович, они почти не разговаривали на посторонние, не касающиеся спектаклей темы. И часто актеры труппы, кроме указаний на репетициях, слышали от гастролеров только «здравствуйте» и «до свидания».
Читать дальше
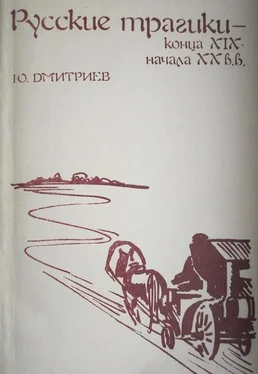
 Братья Роберт Львович (1860–1934) и Рафаил Львович (1861–1938) Адельгейм были известны всей России. Они выступали чаще всего вместе и в губернских городах, и в самых отдаленных и глухих углах страны. Почти ежегодно братья гастролировали в Петербурге и Москве.
Братья Роберт Львович (1860–1934) и Рафаил Львович (1861–1938) Адельгейм были известны всей России. Они выступали чаще всего вместе и в губернских городах, и в самых отдаленных и глухих углах страны. Почти ежегодно братья гастролировали в Петербурге и Москве.










