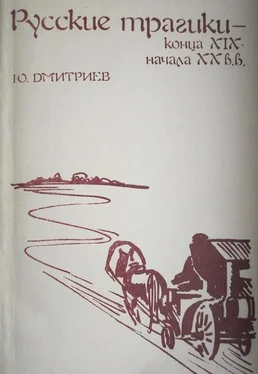Создавая Чацкого, Карла Моора, Фердинанда, Гамлета, Отелло, короля Лира, Ричарда III и других, Мочалов решительно порывал с эстетикой классицизма, еще недавно господствовавшей на театре, с ее рассудочностью, требованиями формальной завершенности образа, точного обозначения положительного или отрицательного. Его герои жили ощущением того, что мир находится в хаотическом состоянии, что в нем отсутствуют гармония и справедливость. Они активно отвергали этот мир, искали свои идеалы жизни и человека, впрочем, рисующиеся им довольно неопределенно.
Романтический герой Мочалова был всегда одинок, он возвышался среди людей, подобно скале на равнине. И жизнь такого героя обычно складывалась трагически, но, даже погибая, он отказывался подчиниться обывательской морали, боролся до конца и смертью своею поднимался над окружающей жизнью. Конечно, такой актер, как Мочалов, оказывался близок тем, кто так или иначе, продолжал дело декабристов: А. И. Герцену, М. Ю. Лермонтову, В. Г. Белинскому, А. В. Кольцову, А. А. Григорьеву и другим, также мучительно страдавшим в удушливой атмосфере николаевского режима.
Мочалов обычно изображал своих героев в период наивысшего подъема всех их душевных сил, в напряженной борьбе и муках отстаивающих идеалы свободы и справедливости. Многое в его игре казалось преувеличенным, доведенным до степени гиперболы. Персонажи Мочалова жили в разные эпохи, принадлежали к разным сословиям. Но при всех условиях актер прежде всего стремился говорить о том, что волновало его современников. Его герои добывали свободу, вели борьбу с внешним и внутренним рабством. Игра Мочалова вызывала восторг перед силой человеческого духа, укрепляла веру в человека, активно отстаивающего свои идеалы.
Вместе с тем его исполнение отличалось повышенной эмоциональностью, контрастностью, постоянной сменой настроений, присущие герою противоречия предельно заострялись. Это побуждало актера прибегать к особым приемам работы над ролями, к особой манере сценического поведения.
Хорошо известно, что Мочалов выделялся неровностью игры и, потрясая публику в одних сценах, мог быть совершенно неудовлетворителен в других. Одну и ту же роль мог сыграть прекрасно и провалить. Почему так происходило? Не будем говорить о тех пьесах, в которых ничего, кроме сценических эффектов и возгласов, не было. Артист не профанировал своих чувств и, вынужденный играть в подобных пьесах, по большей части бывал неудовлетворителен. Но срывы случались даже в лучших ролях, и это требует разъяснений.
Работая над ролью, Мочалов стремился представить ее в целом. При этом его мало интересовала историческая, социальная, а тем более бытовая конкретность образа, он почти не уделял внимания деталям. На репетициях артист никогда не устанавливал твердых мизансцен, не разговаривал полным тоном. Его постоянная партнерша П. И. Орлова рассказывала: «Он всегда хорошо выучивал роли, но никогда не пробовал их интонациями, позами, движениями, как Каратыгин» [1] Орлова П. И. Отрывки из дневника. В сб.: Павел Степанович Мочалов. — М.: Искусство, 1953, с. 360.
. И костюм он надевал, какой подадут. Если на спектакле, в силу различных причин, он не мог творчески сосредоточиться, то сразу же проступало несоответствие между стремлением к яркой эмоциональной форме и вялостью исполнения. Он не был готов к исполнению. Метод, которого придерживался Мочалов, требовал от актера не только огромного таланта, но и постоянного творческого вдохновения. А так как оно приходило не всегда, а артист не всегда знал, как его вызвать, то он и прибегал к самому простому средству: возбуждал себя искусственно, часто при помощи вина. Вино же становилось средством успокоения, забвения и нового возбуждения.
Известно, что Каратыгина, тщательно готовившего свои роли, справедливо рассматривали как антипод Мочалова. Особенно убедительно об этом написал Белинский в знаменитой статье «И мое мнение об игре г. Каратыгина». Но при всей разнице между этими актерами, те персонажи, которых изображал Каратыгин, также возвышались над обычными людьми, приобретали качества исключительности. И спектакли, в которых выступал Каратыгин, тоже казались гастрольными, поставленными специально для него. В спектаклях, где играли Мочалов и Каратыгин, остальные исполнители только подыгрывали корифеям.
Признавая талант Каратыгина, его трудолюбие, Белинский никогда особенно им не восхищался. Ему не импонировал каратыгинский аристократизм, стремление показать, предположим, короля Лира не столько страдающим человеком, сколько лишенным трона венценосцем. По мнению многих прогрессивных театралов, Каратыгину, точнее — его персонажам, не хватало горячего сердца. Следует напомнить, что в конце своей жизни Белинский к Мочалову охладел. В это время его кумиром становится М. С. Щепкин. Вслед за Пушкиным и Гоголем критик утверждал, что театр должен показывать людей во всем разнообразии их характеров, что не существует людей с одним патетическим элементом в характере, без примеси чего-нибудь бытового, смешного, как не может быть только комического без элементов патетического. Но как раз Мочалов и Каратыгин были только трагическими актерами. Все остальные стороны изображаемых персонажей им были чужды.
Читать дальше