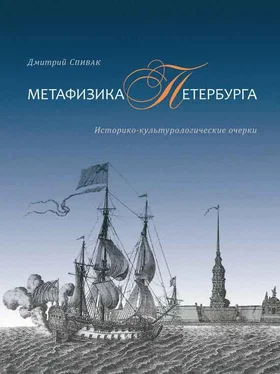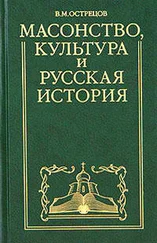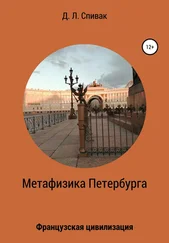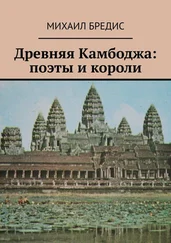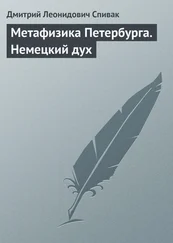Психологический тип «русского немца» начал формироваться в продолжение «немецкого засилья» времен аннинского царствования, весьма укрепился с образованием чиновничьего аппарата николаевских времен, явился во всем своем блеске с приходом эпохи «великих реформ», и был своевременно осмыслен в рамках «петербургского текста» русской литературы – от Пушкина до Гончарова. Сложение психологического типа «русского франкофона» совпало по времени с «золотым веком» русской литературы, равно как отечественной культуры в целом, и со своей стороны придало огромный импульс его формированию. На протяжении всего XIX столетия, любой образованный русский дворянин был практически двуязычен и бикультурен, что легко можно проследить на обширном биографическом материале творцов «петербургского текста» – от того же Пушкина до Толстого. Допустимость и плодотворность сопоставлений в других предметных областях лежит на поверхности, будь то немецко-австрийская музыка и французский балет, исконная склонность «немецкого духа» к романтическому миросозерцанию в архитектуре или изобразительном искусстве, в противоположность ориентации на классицизм в широком смысле этого слова, более чем присущей разворачиванию «французского гения» во времени и пространстве.
Сравнения и противопоставления этого рода легко было бы продолжать ad infinitum, если бы основная тенденция в их общей организации не выяснилась уже с удовлетворительной полнотой. Будучи принята, переосмыслена и освоена российской культурой «петербургского периода» в форме оппозиции между «немецким мифом»и «французским мифом», указанная дихотомия предоставила нашей культуре мощный семиотический механизм, позволивший осознать, переработать или сформулировать заново большинство основных вопросов культурной динамики. Как следствие, прослеживая многообразные способы и пути развертывания и конкретизации этой простейшей, бинарной оппозиции в целом ряде ключевых предметных областей и «форм жизни», и совершая обратное восхождение a realibus ad realiora, мы получаем доступ к базовым составляющим «петербургского мифа», равно как и основным закономерностям его развития. Задача восстановления таковых представляется нам особенно актуальной перед лицом вызовов глобализма, диктующих необходимость скорейшей выработки индивидуальных и групповых стратегий, убедительно продолжающих в новых условиях ориентацию, верно осмысленную классиком петербургской литературной и, более того, духовной традиции, как переход от культуры как «системы принуждений» – к культуре как «лестнице благоговений».
Белинский А.А. Театральные легенды. СПб, 1992, с. 11–12
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу