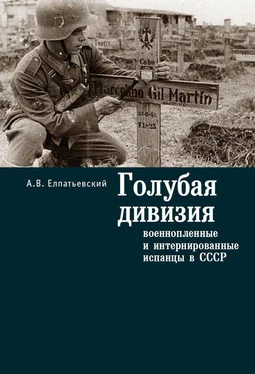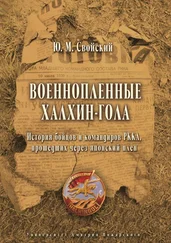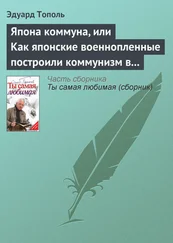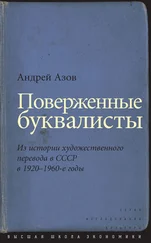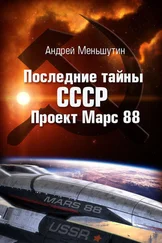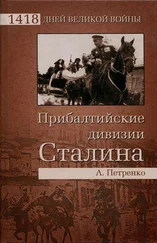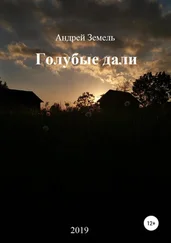О русских военнопленных, захваченных как немцами, так и испанцами, в дневнике Ридруэхо много записей. Впервые автор видит их 15 сентября недалеко от Радошковице:
«…усталых, плохо одетых, более безразличных, чем мрачных. Только три солдата охраняют их. Спасение от войны или готовность к долгому страданию? Западные пленные, которых я видел в Германии, за исключением кое-где поляков, держались с достоинством и даже с некоторым добродушием, как казалось. Эти, судя по слухам, бесчисленные по всей длине фронта, – были на тех не похожи. Я не удивился ощущению – не только моему – отсутствия с нашей стороны и тени неприязни и антипатии к этим врагам. Лишь любопытство и человеческое сочувствие. Кто мог персонализировать в этих людях вину Государства, а в народе – вину Режима? Мы, столь далекие иностранцы, – не можем испытывать злобы ни из-за земли, ни из-за расы. Идея против идеи, люди ничего не должны видеть в этом. У обитателей деревни лица были испуганные и враждебные, а у военнопленных – просто пассивные». (С. 81).
О больших колоннах военнопленных Ридруэхо упоминает неоднократно (С. 83, 108, 126, 127, 171). В самой дивизии, по его свидетельству, русские военнопленные использовались для домашних работ – переноски тяжестей, топки печей и т. п., причем они «казались довольными, предупредительными и услужливыми без принуждения» (С. 186). В конце октября Ридруэхо опять возвращается к теме военнопленных, видя их «огромное число» и, упоминая о жестокой дисциплине в русской армии, делает вывод, что
«попасть в плен, должно быть, менее опасно, чем отступить. Нам сказали, что все возрастает число солдат, перешедших к нам и происходящих из украинских войск, которые сражались против нас. Не знаю, было ли это следствием напряженного политического положения или просто дело в том, что гражданин Украины не чувствует себя обязанным защищать Московию. Раньше мы уже видели военнопленных или тыловиков, которые оставались в немецкой зоне или просто переходили в нее, потому что их дом был здесь, а не там. Потерявшие свой дом, они не считают, что должны защищать что-то еще. Это вполне соответствует морали «вечного крестьянина», которая только в России существует в наиболее полном выражении» (С. 158–159).
О значительном числе сдавшихся в плен добровольно, «особенно украинцев, но также и других, чьи дома были уже оккупированы, или тех, кто чем-то был недоволен», Ридруэхо говорит и в другом месте, указывая, что «русские военнопленные чувствуют себя более удачливыми, когда попадают в плен в наши руки, чем в руки немцев, потому что у нас обращение более свободное и сердечное» (С. 190–191). Он упоминает о сотне русских военнопленных, которых дивизионеры держали на передовых позициях «для различных работ» и которые, несмотря на то, что «продолжали подвергаться опасностям войны и имели возможность легко убежать к своим, не делали ни одной такой попытки» (С. 213–214). Ридруэхо рассказывает ряд анекдотических случаев, характеризующих «чрезвычайное доверие испанских солдат к русским военнопленным», «переходящее в безрассудство» (С. 269).
Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что военное значение Голубой дивизии на Восточном фронте было для Германии невелико. Сам маршрут ее движения (Гродно – Лида – Вильнюс – Минск – Смоленск – Витебск – Новгород) – заставляет думать о том, что немецкое командование не очень представляло, что с нею делать (сведения в «Докладе» Совинформбюро о маршруте дивизии Сувалки-Витебск-Новгород не точны [35]и, возможно, верны лишь для какой– то ее части). Но, как подтверждает и дневник Ридруэхо, испанская дивизия принимала участие в военных действиях и, по – видимому, оказалась для Советской армии достаточно крепким орешком. Дивизионеры – только идейные фалангисты – сражались храбро и умело. В начале для них было характерно романтическое отношение к войне. Перед Витебском они наблюдали, как русский самолет, сбросив бомбы, уходил, невредимый, из – под обстрела немецких зенитных пушек: «Мы присутствуем с каким – то волнением при этой перипетии, и из чувства спортивной справедливости радуемся, что самолет не сбит. В этой войне масс личный подвиг еще сохраняет свой героический престиж, это еще ценится» (С. 113). После того как дивизия встала в Новгороде на боевую позицию, с середины октября 1941 г. для нее начались непосредственные боевые действия, о которых Ридру-эхо много говорит на страницах своего дневника, останавливаясь на вещах, особенно его поразивших. Так, он рассказывает о монастыре на окраине Новгорода, превращенном советскими властями в больницу для умалишенных, которых русские оставили, покинув город. Монастырь находился на ничьей земле, «и выстрелы двух артиллерий перекрещиваются над его башнями», а больные – голодные, покинутые и насмерть перепуганные – мечутся под пролетающими снарядами…» (С. 151).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу