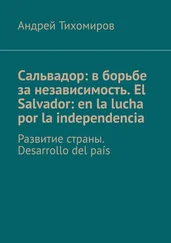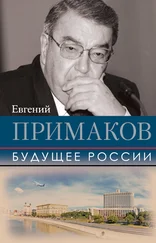В целом же, как видим, советская печать середины 30-х гг. давала весьма оригинальную, углубленную, далекую от упрощения, и во многом объективную оценку ЧСР, ее внутриполитических реалий, а также довольно емкую характеристику главных политических фигур страны того времени. В то же время нельзя не заметить усиление элементов идеализации в портретах Масарика и особенно Бенеша, создаваемых в отрыве от магистральных социальных ориентиров во внутренней политике ЧСР кризисного периода, а порой даже без достаточного учета эволюции взглядов того и другого в сторону социального консерватизма (особенно в период президентства).
И таким образом, заслуги Т.Г. Масарика были в какой-то мере оценены еще при жизни президента [419].
К 80-летнему юбилею Т. Г. Масарика в 1930 г. был приурочен ряд публикаций с интересной оценкой его тернистого жизненного пути из-под пера представителей русской диаспоры в ЧСР. Ими подчеркивалось, что духовный и политический облик Масарика глубоко поучителен для русских людей. По мнению П.Б. Струве, никто лучше и полнее Масарика не учел стихии мировой войны и так удачно не использовал ее для своих демократических идей и идеалов. Струве подчеркивал, что Масарик не был выразителем чешского национализма, а его революционная позиция в австрийском вопросе диктовалась ему учетом неизбежных следствий мировой войны и расчетом на победу противогерманской коалиции. Его расчет оказался правильным, и в этом заключается, по мнению Струве, разгадка того национального и международного значения, которое приобрела фигура Масарика [420].
Русская эмиграция в свою очередь указывала, что Октябрьская революция не вызвала в Масарике непосредственного протеста, так как тот полагал, что большевики как революционная партия не могут быть против чешско-словацкого дела. Констатировался также факт, что Масарик был против создания антибольшевистских формирований из чехо-словацких сил, провозглашая принцип нейтралитета и невмешательства во внутренние дела России.
Тот же П. Струве подчеркивал, что Россию Масарик знал по преимуществу книжно, недостаточно ее исторически ощущал и слишком оптимистически оценивал русскую революцию. И под маской социализма и атеизма Масарик «не мог разглядеть основных определяющих существо революции черт дикой и варварской реакции, идущей из допетровского прошлого России» [421]. Струве считал, что подобно другим западным деятелям, Масарик оказался в плену у легенды о «царизме» как сплошном темном пятне в истории России, тогда как на деле царизм в отличие от сметшей его революции выражал начала культуры и гуманности.
Представители русской интеллектуальной диаспоры испытывали чувства уважения и благодарности к президенту ЧСР, оказавшему радушный прием беженцам из России. В полной мере и более стройно эти чувства русской колонией в ЧСР были сформулированы в связи с кончиной Т. Г. Масарика 14 сентября 1937 г. В направленном в этот день на имя премьера ЧСР обращении правления Объединения русских эмигрантских организаций (ОРЭО) в ЧСР подчеркивалось, что с именем Масарика были связаны все этапы роста чехо-словацкого государства, и русская эмиграция воочию наблюдала за культурным и материальным прогрессом молодой республики. При Масарике русские встретили прием, украсивший собою лучшие страницы культурной истории ЧСР. В обращении ОРЭО отмечалось, что нет возможности перечислить все виды того огромного культурного дела, которое именовалось «Русской акцией» и память о котором крепка в сердцах тысяч русских людей. Именно президент Масарик, мыслитель, философ и моралист, поставил дело помощи русской эмиграции вне каких-либо политических планов и расчетов.
По инициативе ОРЭО вскоре (23 сентября 1937 г.) состоялось специальное торжественное заседание памяти Т. Г. Масарика, на котором прозвучали речи председателя профессора А.С. Ломшакова («Президент Т.Г. Масарик и русская эмиграция») и профессора П.Н. Милюкова («Т.Г. Масарик и Россия»).
Хотя имя Масарика, по словам А.С. Ломшакова, не было выявлено при реализации «Русской акции», тем не менее за ней стоял он, его благородный дух, его душа, встревоженная за судьбу русской культуры, за будущее России. Его помыслом было собрать, сохранить и подготовить к предстоящей созидательной работе культурные силы русской эмиграции и особенно молодое поколение.
Эту достаточно объективную линию продолжали советские энциклопедические издания, в частности в целом благожелательная и весьма насыщенная полезной информацией (невзирая на отдельные неточности) статья 1938 г. о Т.Г. Масарике [422], в которой подчеркивалось, что президент в свое время покинул занимаемый пост по собственной инициативе. Не содержалось в ней даже типичных позже упреков в связи с белочешской легионерской эпопеей в России.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
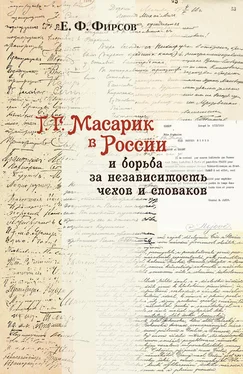
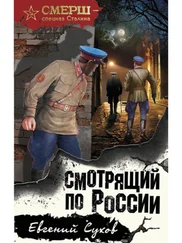

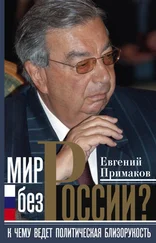


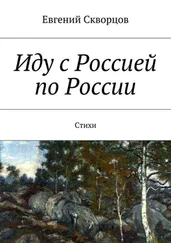

![Евгений Примаков - Будущее России [сборник]](/books/392497/evgenij-primakov-buduchee-rossii-sbornik-thumb.webp)