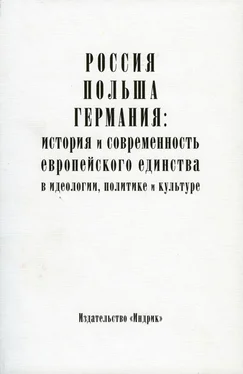Адам Ежи Чарторыский в своей записке от 30 декабря 1814 г. отмечал, что «Парижский договор [779], установивший основы свободы судоходства по рекам Германии, положил счастливое начало применению либеральных принципов по всем видам торговых связей. Речь, следовательно, идет лишь о том, – отмечал он, – чтобы распространить этот принцип на все реки, устья рек, каналы и порты, которые находятся на территории Пруссии и представляют интерес для торговли польских областей. Этот же принцип надо распространить и на сухопутные торговые связи. В нем уполномоченный на переговорах должен усмотреть цель и смысл постановлений, предложенных с тем, чтобы обеспечить польским областям, независимо от их государственной принадлежности, неисчислимые блага, которые принесет им свобода внутренних и внешних торговых связей» [780].
Вследствие постановлений Парижского трактата 1814 г., в рамках венских переговоров было подписано постановление о свободе судоходства по рекам [781], которое, с одной стороны, призвано было способствовать всестороннему развитию торговых отношений между народами, а с другой, стало впоследствии прототипом для многих подобных международных соглашений, в частности, в отношении Вислы [782].
Для урегулирования правил судоходства и торговли, а также устройства таможен Королевства Польского с польскими провинциями Австрии и Пруссии в конце 1815 г. европейские монархи учредили в Варшаве трехстороннюю комиссию [783]. 26 февраля 1816 г. комиссия приступила к работе. В течение марта – ноября 1816 г. Варшавская комиссия выработала девять конвенций [784], условно утвержденных русским правительством, так как не было выполнено основополагающее требование: ограничение доступа прусских и австрийских товаров на внутренний рынок Российской империи. В феврале 1817 г. заседания этой комиссии были перенесены в Петербург, где был создан специальный комитет [785], работа которого затянулась почти на два года [786]и лишь в августе и декабре 1818 г. были подписаны договоры о торговле и судоходстве с Австрией и Пруссией [787].
В соответствии с этими документами «судоходство по рекам большим и малым, […] которые, имея вершину свою в землях, составлявших в 1772 г. Королевство Польское, […] как вверх, так и вниз до впадения их в море, и вход в пристани» объявлялось свободным. Это постановление должно было относиться «к каналам уже существующим и тем, кои впредь будут прокопаны; ко всем рекам, ныне уже судоходным, или могущим впоследствии сделаться судоходными», которые «протекают между восточными границами прежней Польши, Двиною, Днепром, Днестром и Прутом». С судов, проходящих по Висле, не должны были взиматься никакие пошлины [788].
Свободу судоходства подтвердила и российско-прусская конвенция от 27 февраля 1825 г. [789], несмотря на то, что были аннулированы конвенции 1818 г. и ряд статей Венского договора 1815 г. [790].
Таким образом, события европейской жизни начала XIX в. дают множество примеров поиска способов и моделей экономического объединения государств, несмотря на порой прямо противоположные направления в проводимой ими внешней политике. При этом обращение к тем или иным элементам экономического объединения европейских стран диктовалось в первую очередь потребностью преодоления экономических трудностей военного времени и послевоенного восстановления народного хозяйства.
Регулирование экономических отношений между европейскими монархиями после Венского конгресса приняло форму торговых договоров, которые определяли принципы эксплуатации путей сообщения, условия свободы поселения, размеры таможенных пошлин, включали таможенный тариф. Благодаря торговым договорам должен был осуществляться принцип взаимности в экономических отношениях отдельных государств. Однако он проводился не всегда последовательно. Особенности экономического развития европейских стран приводили к доминированию национальных интересов над общеевропейскими проблемами и затягиванию переговорного процесса на несколько десятилетий. Кроме того, если проблему судоходства европейским странам удалось согласовать достаточно быстро, то проекты возможных совместных финансовых мероприятий в большинстве своем оставались на бумаге или частично реализовывались в рамках двусторонних соглашений.
Однако наиболее полно объединительные тенденции в Европе в начале XIX в. прослеживаются на примере истории создания Германского таможенного союза. 1 января 1834 г. прекратили свою деятельность Баварско-Вюртембергский, Центральногерманский и таможенный союз во главе с Пруссией. Между членами нового таможенного союза, руководство в котором принадлежало Пруссии, были упразднены пошлины и сделаны первые шаги к объединению системы мер и весов [791]. В 1838 г. на его территории была введена единая валюта – «единый талер» (Vereinsthaler). В 1836 г. к таможенному союзу присоединились Баден и Нассау, а в 1842 г. – Брауншвейг и Люксембург [792].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу