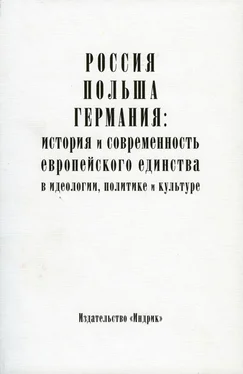Подобные предложения Д.А. Гурьев изложил в депеше от 20 августа 1813 г. послу в Лондоне Х.А. Ливену [768].
О выпуске особых кредитных билетов говорилось и в конвенции о субсидиях и союзной помощи между Россией и Великобританией, подписанной в Рейхенбахе 15 июня 1813 г., и в англо-русской конвенции о выпуске английским правительством особых кредитных билетов для покрытия военных расходов России и Пруссии, заключенной 18 сентября 1813 г. в Лондоне. В соответствии с этими документами король Великобритании «для облегчения недостатка в звонкой монете, который […] дает себя чувствовать в денежных оборотах на континенте», должен был предложить парламенту выпустить особые кредитные билеты, сумма которых в первой конвенции определялась не более как в 5 млн. ф. ст., а во второй – в 2,5 млн. ф. ст., или 15 млн. прусских талеров. Федеративные бумаги, выпускаемые от имени трех держав (Англии, России и Пруссии), предназначались «исключительно на расходы военные и на содержание действующих войск» в следующей пропорции: ⅔ передавались России, а ⅓ – Пруссии. Предусматривалось, что Великобритания будет проводить ежемесячное погашение кредитных билетов после ратификации общего мирного договора [769]. Исследователи по-разному оценивают этот проект. Л.А. Зак полагал, что Англия организовала эту финансовую схему, чтобы найти способ «уклониться от передачи настоящих золотых фунтов и изобрести какую-нибудь замену», а также обезопасить себя от заключения сепаратного мира между континентальными союзниками и Францией [770].
Идеи, высказанные в этих документах, получили свое дальнейшее развитие в рамках двусторонних (в частности, российско-германских) договоренностей. На основании рескрипта от 13 января 1813 г. [771]российские бумажные деньги были выпущены в обращение в Пруссии и Княжестве Варшавском [772]. Вначале, для укрепления доверия к ним «и для облегчения их хода в местах, занимаемых войсками», разрешалось свободно провозить их обратно в империю. Вскоре ситуация изменилась и «пропуск в Россию государственных ассигнаций», выпущенных для обращения за границей, был запрещен. В новых условиях обеспечить их свободное обращение и оградить от притока фальшивых предлагалось следующим образом. Те, кто хотели перевести ассигнации в Россию, должны были представлять их в созданные при армиях променные конторы, где необходимо было сообщить, в каком из пограничных городов – в Гродно, Вильно, Риге или Санкт-Петербурге – хотели они получить вносимую сумму. Контора должна была немедленно выдать предъявителю квитанцию, а казенная палата по представлении этой квитанции означенную в ней сумму [773].
13 февраля 1814 г. Д.А. Гурьев вновь вернулся к проблеме обмена «в Пруссии и Германии российских ассигнаций», так как, отмечал он, их введение за границей «затруднительно и неприятно» для простых жителей потому, что «надписи о достоинстве ассигнаций» написаны на неизвестном для них языке, их неудобно считать, так как «каждая ассигнация представляет не круглую сумму, но в дробях», а также и потому, что были установлены «таксы или maximum на съестные припасы», которые местные жители могли считать «следствием введения ассигнаций» [774]. Поэтому российский министр финансов предлагал обменять всю сумму ассигнаций, находящихся в Пруссии и Германии, «на новые кредитные бумаги, которые, – как отмечалось в документе, – были бы писаны на монету прусскую, и определить выкупить их по равным частям в 6 лет с платежом пяти процентов в год». Таким способом правительство надеялось изъять из обращения и уничтожить 50 млн. ассигнационных рублей. За эту сумму в течение 6 лет предполагалось заплатить 13 000 000, а «с процентами до 15 000 000 прусских талеров» [775]. Обмен кредитных бумаг предлагалось производить в специально созданном для этих целей Центральном бюро в Лейпциге и в филиалах на местах. К.В. Нессельроде в письме к Д.А. Гурьеву от 2 мая 1814 г. писал по поводу этого плана, что «не видит в нем смысла и что преимущества проекта не компенсируют его недостатков [776].
Примером объединения Европы в сфере транспортной политики может служить судьба Княжества Варшавского после окончания наполеоновских войн и Венского конгресса 1815 г. Согласно международным соглашениям, подписанным в Вене, к России был присоединен Центральный Польский район, называемый Королевством Польским, к Пруссии – Великопольские области (Великое княжество Познанское), Восточная Галиция вошла в состав Австрийской империи, а Краков с округом получили статус «вольного города» [777]. Потерянная политическая самостоятельность должна была компенсироваться экономическим единством. В соответствии с достигнутыми договоренностями, «во всех частях прежней Польши» должно было беспрепятственно осуществляться «судоходство по всем рекам и каналам», «обращение всех произведений земли и изделий промышленности», транзитная торговля и т. д. [778].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу