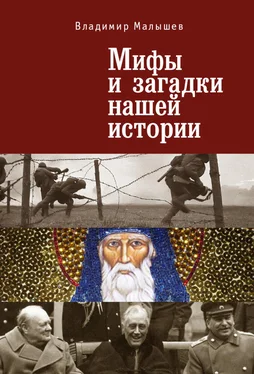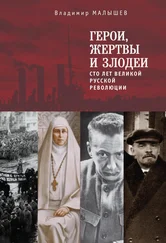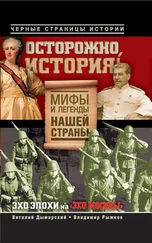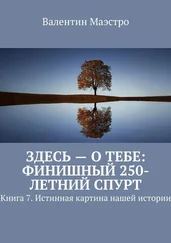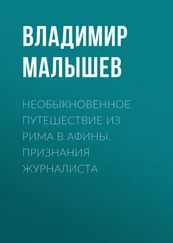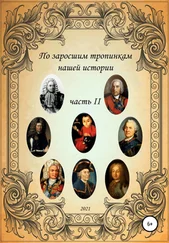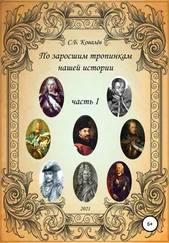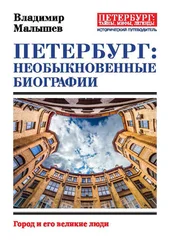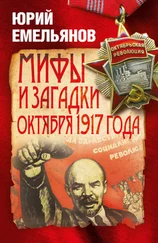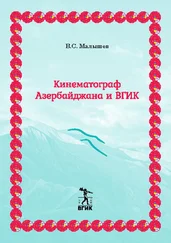Оригинальный способ снабжения блокированного города, как уже говорилось, предложил Исполкому Ленинградского совета профессор Н. Бутников. «Не исключена, – писал он, – возможность устройства троллейбусной линии, питаемой током от Волховской гидростанции через трансформатор, для чего можно использовать все городские вагоны троллейбусов, сняв диваны. Столбы для проводов легко вморозить в лед».
Предложение Бутникова внимательно рассмотрели, но принято оно не было. По всей вероятности потому, что троллейбусы нужны были для самого города. А может, и потому, что показались руководству Ленинграда слишком «экзотичным».
Но был еще более экзотичный план доставки в Ленинград продовольствия через Ладогу – на буерах! Ленинградское отделение Научного инженерно-технического общества машинстроителей (ЛОНИТОМАШ) за подписью заместителя председателя В. Комлева и ученого секретаря Т. Тимофеевского составило записку по использованию буеров для перевозки грузов через Ладожское озера и эвакуации населения. В записке сообщалось, что ЛОНИТОМАШ разработал конструкцию грузового буера, рассчитанного на эксплутационную скорость 40–50 км в час и грузоподъемностью 0,75-1 т. И предлагает создать флотилию из 300 буеров. По мнению авторов записки, такая флотилия при работе, в среднем, по 12 часов в сутки сможет ежедневно перевозить в Ленинград 900-1200 τ грузов и переправлять через озеро 8400 человек. «Буерная флотилия указанных размеров, – говорилось в записке, – заменит не менее 600–700 машин ГАЗ-АА, не требуя для перевозки бензина».
Однако и этот проект не был реализован. Помимо уже упомянутого выше эпизода с доставкой буерами небольшой партии бензина, широко их применять не стали. Дело в том, что хотя для буеров и не было нужно топливо, но был необходим ветер. А он дул далеко не всегда, а когда и дул, то зачастую с недостаточной силой.
Часть грузов, как известно, доставлялась в Ленинград еще и самолетами. Особенно, когда речь шла о документах для штаба фронта, матрицах центральных газет, которые, несмотря на блокаду, печатали в осажденном городе, письмах и т. п. Иногда для воздушных перевозок формировали специальные «воздушные поезда». К самолету ПС-40 прицепляли один-два планера. Такой «поезд» на бреющем полете преодолевал Ладогу и приземлялся в Ленинграде. Однако он мог стать и нередко становился легкой мишенью для немецких летчиков.
По этой же причине – мины и постоянные обстрелы – не удавалось доставлять грузы на подводных лодках. Зимой 1942 года подлодка П-2 под командованием капитан-лейтенанта И. Попова доставила в Кронштадт 700 тонн топлива для электростанции, которое было залито в цистерны вместо балласта. Однако за время перехода она получила 14 пробоин, и ее пришлось списать.
Нынешним поколениям трудно даже вообразить те ужасы, которые пришлось пережить населению осажденного города. В документальной книге «Ленинград в осаде» приводится отчет треста «Похоронное дело», подчиненного управлению предприятиями коммунального обслуживания города. Из сухих, бюрократических отчетов возникают страшные подробности пережитой ленинградцами трагедии. Читать об этом страшно. Но надо. Чтобы в полной мере оценить величие подвига ленинградцев.
К началу войны, говорится в отчете, кладбища Ленинграда обслуживали 10 могильщиков, 64 уборщика и 77 сторожей. Работа по захоронению протекала нормально без каких-либо затруднений. В первые дни Отечественной войны при управлении трестом «Похоронное дело» из рабочих предприятий последнего был сформирован отряд в количестве 21 человека с приданными им 4 автобусами. Личный состав отряда был обеспечен резиновыми сапогами, передниками, перчатками и переведен на казарменное положение, а дежурная часть – на круглосуточное дежурство при управлении трестом».
Город еще не был осажден и никто не догадывался о масштабах предстоящей трагедии. Руководители Ленинграда, как и все тогда в СССР, считали, что это будет война «малой кровью, на чужой территории» и очень скоро враг будет разгромлен. Однако в действительности все произошло иначе. Тем не менее, первые дни войны, когда уже начались бомбардировки и артобстрелы, людей хоронили более или менее цивилизованным образом. «В первый период бомбардировок и артиллерийских обстрелов 80–85 % трупов, доставляемых в морги из очагов поражения, опознавались родственниками, и хоронилось в обычном индивидуальном порядке на кладбищах города. Неопознанные трупы по истечении 48 часов фотографировались представителями соответствующего отделения милиции, прикомандированного к моргам, оформлялись составления актов опознания, на основании актов представителя милиции и врачей оформлялись свидетельства о смерти в ЗАКСах, после чего такие трупы помещались в траншеи. Над каждым захороненным устанавливалась деревянная, окрашенная в красный цвет колонка, на которой писалось имя захороненного, а при невозможности установить личность, писалось – «Неизвестный». Ценности, обнаруженные при трупах, изымались представителем милиции и последним, по актам, сдавались представителям соответствующего райфо».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу