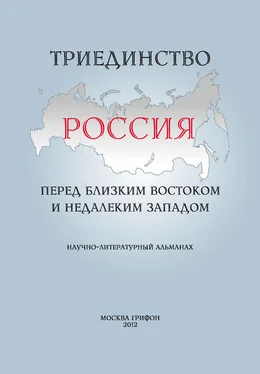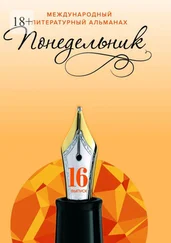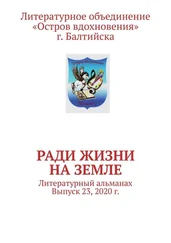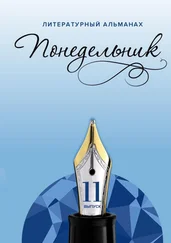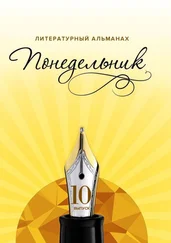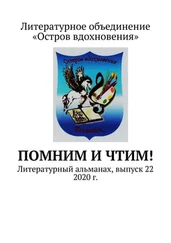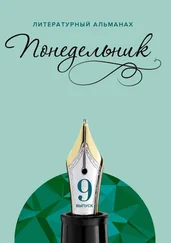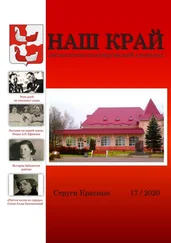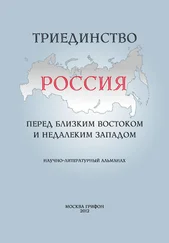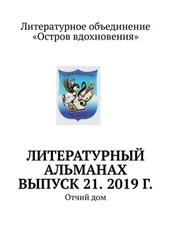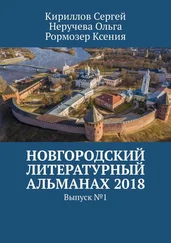Возможно, именно поэтому здесь, на североафриканском перекрестке культур и народов, во многом означенном колониальным присутствием Европы (а значит, и ее духовным воздействием), так упорно сражались народы за свою Независимость: Алжирская война, к примеру, длилась почти 8 лет – с 7054 но 7 $62 г. Они отстаивали свою землю, свое право распоряжаться собственной судьбой, вдохновленные бессмертным лозунгом Французской революции – Свобода, Равенство и Братство. И сегодня люди снова отстаивают свое право на свободную жизнь, попранную террором исламистов. Об этом пойдет речь в публикуемом ниже эссе о новой трагедии Алжира, разыгравшейся в конце 80-х гг. XX века и длившейся на сей раз как гражданская война, почти 10 лет, до конца она так и не изжита в новом столетии.
Кто, как не Леонид Иванович Медведко, научил нас понимать, что такое «священная война», которую ведут от имени Аллаха?! Его книги – урок объективного политического анализа. Позволим себе в меру возможностей обратиться к еще одному свидетельству об этой Войне и помочь читателю прислушаться к голосу народа, уставшего от утраты иллюзий.
Я долго не решалась написать об этой книге [229]. Рашид Мимуни в романе «Проклятие», и Рашид Буджедрав повествовании, похожем на бред выползшего из-под груды трупов раздавленных войной людей («Беспорядок вещей»), и Ассия Джебар в сборнике новелл «Оран, мертвый язык», и Мохаммед Диб в сумрачной эпопее «Если захочет Дьявол» «развернули» причины нашествия исламского интегризма (в первую очередь – неудачи, которые сопровождали строительство новой жизни в постколониальное время). Они запечатлели ярко и смело весь кошмар случившегося (особенно развязанного в стране в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. террора), воссоздали поистине антропологию Страданий людей и земли. Что-то стало много на Востоке этих войн, слишком много, и часто вспыхивающих, и подолгу пылающих. «Привыкнуть» к их дурной бесконечности почти невозможно – конфликты становятся все изощреннее. Будто и в самом деле, как полагают давно уже некоторые политологи, гуляет себе по миру, «без объявления» своего – третья мировая, – уж больно велика стала эта «сумма локальных конфликтов». Но если бы 20 августа 2008 г. я вновь не услышала по радио и не увидела по телевидению о «новых терактах» и «вылазках исламистских боевиков» в Алжире, уничтоживших еще «полсотни мирных жителей», то, наверное, книга Латифы Бен Мансур так и осталась бы лежать на моем письменном столе, только напоминая, что сделали они с одной из самых прекрасных стран, с ее народом, поразительно современной интеллигенцией, реально воплотившей в себе «синтез» культур Востока и Запада. Но именно потому, что кто-то хочет «зарезать» еще и сегодня Свет Наступающего Дня (воспользуюсь образом Поля Элюара), и именно там, на Востоке (если соотнести арабский мир или мусульманский в целом с этим не столько географическим, сколько цивилизационным понятием), именно потому и надо, видимо, свидетельствовать, неустанно напоминая, что человек не должен забыть Вкус Солнца, не может знать только Мрак Ночи и думать, что свершающаяся на его глазах или сохранившаяся в памяти человечества История – это бесконечная цепь извечных «проклятий» и торжествующая «воля Дьявола». Человек создан для Жизни. И она не должна быть только страданием…
Но вот книга Латифы Бен Мансур «Год затмения» даже названием своим настраивает читателя на трагический лад, напоминая, что ее страна – это не просто часть Магриба, то есть западной земли арабского мира, той, где Заходит Солнце, мирно «садится», закатывается. Нет, солнце это здесь затмевается [230], его затмение становится черным атрибутом современной истории Алжира, где сама Жизнь Человеческая накрыта Тенью Смерти.
Эпиграфом к книге стали слова: «Даже во сне жить стало страшно». Такое ощущение от своего существования на родной земле испытывает героиня книги алжирской писательницы, уже известной как автор двух повестей: одной – лирической – «Песни лилии и базилика» (1990), другой – драматической – «Молитвы страха» (1997), вобравших весь «диапазон» жизни алжирки от Любви до Войны. Но «Год затмения» жанрово не обозначен писательницей, и это не случайно. Книга исполнена трагизма документального свидетельствования, почти лишена художественного вымысла и однозначно посвящена «всем праведникам, имена которых нельзя назвать, но они вот уже более двенадцати лет сражаются в Алжире с отвратительным чудовищем… И всем тем безымянным женщинам, с которым и мне пришлось встретиться взглядом и в чьих глазах я увидела гнев попранной справедливости, муку насилия и бесчестия. Всем алжиркам, оставшимся без помощи, без сочувствия. Вам, сестры мои, – которым я поклялась не забыть о ваших страданиях… В память о тех, кто представлял честь и достоинство Алжира» [231].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу