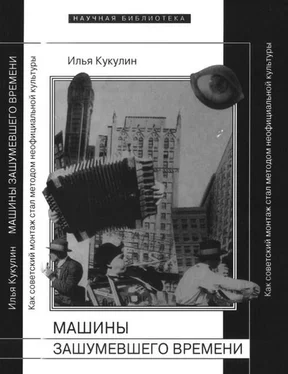Эквивалентом осмысления страданий, характерного для фильмов Эйзенштейна, или психологического кризиса, своего рода «метанойи» пьес Брехта, — у Рифеншталь становится телесный экстаз. Действующее в ее фильмах множество людей не полифонично, но это отсутствие полифоничности — «минус-прием»: персонажи сливаются в многоликое коллективное тело, совмещающее черты древности и современности: ср., например, сцены коллективного умывания полуголых юношей, или факельные марши в «Триумфе воли», или сцены прыжков, тренировок, совместных медитаций обнаженных спортсменок в «Олимпии».
Без упоминания Рифеншталь список будет, видимо, неполным, так как даже из ее фильмов видно, что главным «архетипическим» событием в произведении ЭППИ является революция — понимаемая не как политическая трансформация, но как антропологическая утопия. Если же причислять Паунда и Рифеншталь к этому направлению, становится ясно, что ЭППИ, при всей своей революционности, не обязательно связано с левой мыслью марксистского толка.
Философским предвосхищением ЭППИ были концепции Анри Бергсона, противопоставившего реальность как нерасчлененное творческое становление — и ее восприятие человеком в виде отдельных кинематографических «кадров». История влияния Бергсона на русскую культуру исследована пока не слишком подробно [426] См. работу Аркадия Блюмбаума: Блюмбаум А. Антиисторицизм как эстетическая позиция (К проблеме: Набоков и Бергсон) // Новое литературное обозрение. 2007. № 86. С. 134–168. О рецепции Бергсона в дореволюционной России см.: Nethercott F. Une rencontre philosophique: Bergson en Russie (1907–1917). Paris: L’Hartmann, 1995; о трактовке Бергсона русскими философами-эмигрантами: Блауберг И. И. Анри Бергсон. М.: Прогресс-Традиция, 2003. С. 591–626.
, однако в научной литературе уже обсуждалось воздействие работ философа и его диалектики непрерывного и прерывистого на русских формалистов, в частности на их представления о кино [427] Curtis J. Bergson and Russian Formalism // Comparative Literature. 1976. Vol. XXVIII. No. 2; Левченко Я. Другая наука. Русские формалисты в поисках биографии. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. С. 46–58.
.
Связь поэтики Эйзенштейна с философией Бергсона Жиль Делёз проанализировал в первом томе своей книги «Cinéma»: «Сингулярное [в кинематографе] берется из произвольного, им может быть что угодно, лишь бы оно было попросту необычным или незаурядным. Сам Эйзенштейн ясно указал, что „пафос“ предполагает „органичность“ как организованную совокупность произвольно взятых моментов, где должны пройти разрывы» [428] «Об органическом и патетическом ср.: Эйзенштейн С. М. Неравнодушная природа. Т. 3. С. 44–71» (ссылка Ж. Делёза, сверенная его переводчиком Б. Скуратовым): Делёз Ж. Кино. С. 45–46.
.
Философия Бергсона была одним из путей критического преодоления гегельянского прогрессизма и телеологизма. ЭППИ стало своего рода реваншем телеологизма в эпоху модернистского искусства и прививкой прогрессизма к бергсоновской эстетике. Даже Паунд, несмотря на свою программную тягу к средневековью и к идее возвращающихся сюжетов в истории, тоже был не чужд прогрессизму.
Политическое: семантика и прагматика
О политизации искусства, прежде всего модернистского, в XX веке написано огромное количество работ [429] См., например: Golomshtok I. Totalitarian Art in the Soviet Union, the Third Reich, Fascist Italy, and the People’s Republic of China. London: Collins Harvill, 1990; Ades D., Benton T. Art and Power: Europe Under the Dictators 1930–45 / With a Preface by E. Hobsbawm. London: Hayward Gallery, 1996; Clark T. Art and Propaganda in the Twentieth Century: the Political Image in the Age of Mass Culture. New York: Harry N. Abrams Inc., 1997; Brown N. Utopian Generations: The Political Horizon of Twentieth-Century Literature. Princeton University Press, 2005; Griffin R. Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler. New York: Palgrave Macmillan, 2007. P. 279–294; Bronner S. E. Modernism at the Barricades: Aesthetics, Politics, Utopia. New York: Columbia University Press, 2012; Рауниг Г. Искусство и революция: художественный активизм в Долгом двадцатом веке / Пер. с нем. и англ. А. В. Скидана, Е. А. Шраги; науч. ред. А. В. Магун. СПб.: Изд-во Европейского ун-та в СПб., 2012 (нем. оригинал издан в 2005 г.).
. Две причины этого процесса хорошо изучены — это развитие массовых политических движений и усилившееся вовлечение писателей и художников в политическую деятельность — в том числе и в такую, которая предполагает прямое использование насилия (революция, терроризм, гражданские войны) [430] Об этой политизации художников см.: Рауниг Г. Указ. соч.
. Однако у этой трансформации сферы искусства были и другие, менее очевидные причины.
Первая треть XX века стала временем резко усилившегося участия масс в политических изменениях и, шире, в историческом процессе. Эта трансформация была направлена и использована идеологами массовых революционных движений, например, В. И. Лениным и Л. Д. Троцким, которые анализировали и пропагандировали собственные практические достижения (Ленин — «Две тактики социал-демократии в демократической революции», 1905; «Государство и революция», 1917; Троцкий — «Наша революция», 1906), позже — обсуждена социальными мыслителями 1920-х — начала 1930-х годов. Тогда же был опубликован ряд работ, самые известные из которых — «Восстание масс» (1929) Х. Ортеги-и-Гассета и — при всей одиозности этой книги — «Рабочий. Господство и гештальт» (1932) Э. Юнгера. Журналисты, социологи, философы указывали на историческую новизну участия «человека толпы» в политических событиях, но меньше замечали, что для этого человека само участие было пугающим, непривычным, стрессовым переживанием. Новый коллективный опыт вступал в сложные, часто конфликтные отношения с устоявшимися в XIX — начале XX века практиками повседневной жизни.
Читать дальше