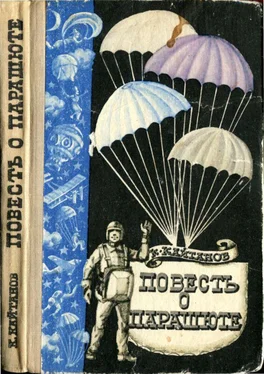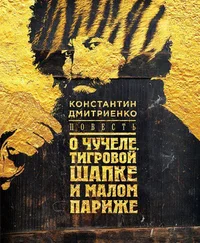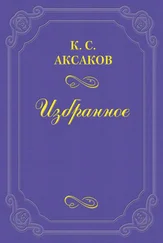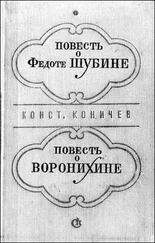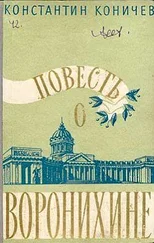Мне не раз доводилось замечать и на собственном опыте, и на опыте коллег, как в минуту смертельной опасности резко повышается психическая и физическая активность человека. Борясь за жизнь, человек энергично, в мгновение ока, решает самые сложные вопросы и, как правило, выбирает самый правильный путь. В такие моменты исчезает чувство страха, и активные действия подавляют отрицательные эмоции.
Не могу не вспомнить один случай, происшедший с летчиком-истребителем.
Во время воздушного боя его самолет был подожжен, и летчик покинул машину на высоте около четырех тысяч метров. Задержав раскрытие парашюта секунд на 20–25, он выдернул кольцо, но, увы, парашют не раскрылся. Бросив кольцо, он ощупью, ведя пальцами по гибкому шлангу, нашел предохранительный клапан ранца, открыл его и выдернул тонкий металлический тросик со шпильками, которые запирают раскрывающее приспособление. После этого парашют раскрылся нормально. Уже на земле он выяснил, что металлический трос вытяжного кольца и гибкий шланг были перебиты осколком снаряда.
Рассказывал эту историю летчик спокойно, а я мысленно представлял себе, что пережил он во время падения. И какое надо было иметь самообладание и волю, чтобы, летя к земле со скоростью 50–60 метров в секунду, сделать это!
Нет, не напрасны были наши усилия. Интенсивная парашютная подготовка в предвоенные годы давала свои результаты. Советские летчики с честью выходили из самых сложных и рискованных ситуаций. Боевая практика давала множество подтверждений тому.
Во время боев стало ясно, что необходимое условие успешного прыжка — уменьшение скорости полета. И просто чудо, что в одном эпизоде, когда это условие не было соблюдено, летчик все же спасся. Это произошло 1 апреля 1944 года. Младший лейтенант Инкин выполнял боевое задание, когда его атаковали четыре истребителя. Схватка была короткой и ожесточенной. Но силы слишком не равны. На самолете Инкина было перебито управление рулей высоты, и машина с работающим мотором вошла в глубокое пикирование. Инкину следовало бы выключить зажигание и заглушить мотор или по крайней мере убрать газ, чтобы избавиться от сильного потока воздуха, который давал работающий мотор. Однако он не сделал этого и просто вывалился за борт, ударился о левый стабилизатор и сломал четыре ребра. Летчик потерял сознание. Но этот же удар и спас его, поскольку парашют раскрылся, задев о стабилизатор, и, даже слегка разорванный, благополучно опустил человека на землю.
Впрочем, таких случаев столкновения с хвостовым оперением самолета было не так уж много.
Дело в том, что наши самолеты еще в стадии конструирования компоновались так, чтобы до минимума свести возможность столкновения с хвостовым оперением. А вот в американском истребителе «аэрокобра», в общем-то хорошем по своим боевым качествам, это условие не было учтено.

Среди наших летчиков, летавших на нем, даже утвердилось ироническое мнение, что этот самолет будто бы мстит тому, кто покидает его в воздухе. Мстит, ударяя летчика по ногам стабилизатором. Увы, это было недалеко от истины. Дело в том, что при отделении от «кобры» ноги завихрениями воздуха поднимались вверх и неминуемо ударялись о стабилизатор. Единственный способ избежать удара — сразу же подтянуть ноги к туловищу. Кто этого сделать не успевал, тот обязательно сталкивался с жесткой кромкой стабилизатора, а землю встречал с поврежденной одной, а то и двумя ногами.
Война рождала совершенно новые, неизвестные нам до войны методы прыжка с парашютом. Прежде всего из-за возросших скоростей самолетов. Один из них — метод самовыбрасывания. Он привился на одноместных машинах благодаря тому, что не требовал затрат физических усилий при оставлении машины.
Подготовка к прыжку производилась в обычном порядке. Затем, увеличивая обороты мотора или же за счет потери высоты, летчик набирал скорость и резким, энергичным движением ручки управления «от себя» круто опускал нос самолета. Возникавшие при этом огромные инерционные силы выбрасывали летчика из кабины. Ему оставалось только держать все тело собранным, сгруппированным, чтобы не зацепиться ни за что в кабине. Механика этого способа такова: тело летчика продолжает сохранять первоначальное направление движения, а самолет резко уходит вниз.
Довольно часто пилот переворачивал самолет «на спину» и вываливался из машины, стараясь не зацепиться за приборы и борта кабины. Затем, сделав необходимую задержку, раскрывал парашют и приземлялся.
Читать дальше