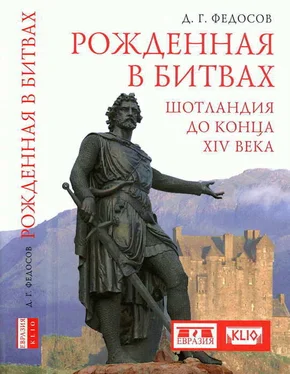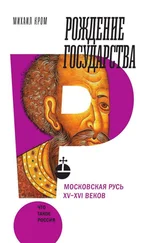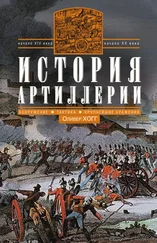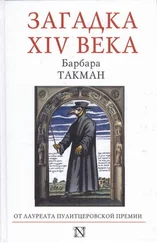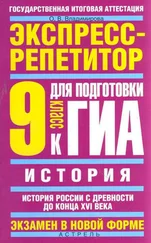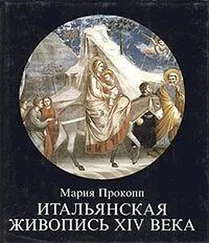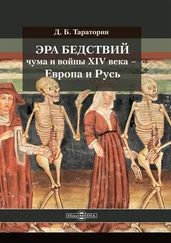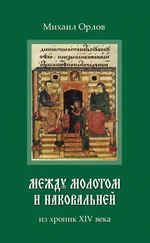В течение XIII–XIV вв. в аграрном и социальном развитии Шотландии все яснее проступают три взаимосвязанные тенденции, сходные с теми, что имели место в Англии: коммутация земельной ренты и повинностей, сокращение домена и ослабление серважа до полного исчезновения несвободных крестьян. Слабеющая связь держателей с землей вела от наследственного землепользования к срочному. Лорды все более охотно применяли в своих поместьях наемный труд или сдавали их в аренду по частям. Арендный договор обычно заключался на срок от одного до пяти лет с правом возобновления, реже — на более длительный период или пожизненно. Держатель выплачивал лорду годовую фиксированную ренту (лат. firma, шотл. ferm, откуда название арендатора — firmarius, fermour).
Старейшая из сохранившихся переписей светских бароний (и единственная до XV в.) — экстент лордства Мортон, составленный в 1376–1378 гг. для его владельцев Дугласов, содержит данные о многих разрозненных районах южной Шотландии. На землях Мортона еще попадались коттеры, которые несли отработочную повинность, но подавляющее большинство держателей арендовали участки на один год, и лишь некоторые дольше, но не более, чем на пять лет. {222} 222 Morton Registrum, I, p. xlvii.
Средняя годовая рента равнялась примерно одному фунту, но иногда по-прежнему дополнялась продуктами. С манора Эбердур (Файф) лорд Мортон получал 4 челдера овса, 16 боллов (1 челдер) ячменя, 4 овцы, две дюжины кур и 15 фунтов 15 шиллингов серебром. {223} 223 Ibid., p. lxv.
, [65] B XVII в. 1 болл (шотландская мера веса) = 145,145 литра; 16 боллов = 1 челдер = 2322,324 л. (The Concise Scots Dictionary. Aberdeen, 1985, p. 818). B XIII в. челдер овса стоил от 1 марки до 1 фунта (ER, I, pp. liii, liv).
Коммутация и другие внутренние и внешние факторы способствовали быстрому обретению зависимыми крестьянами личной свободы и их частичному переходу в разряд фригольдеров уже к концу XIII в. Хотя в более поздних хартиях изредка и говорится о «bondis, bondagiis, nativis et eorum sequelis», {224} 224 RMS, I, №№ 627, 949.
это вызвано скорее консерватизмом королевской канцелярии, чем реальным положением дел. Как выразился один шотландский историк, «сервильность тихо скончалась в XIV в.». {225} 225 Smout Т. С. A History of the Scottish People. L., 1969, p. 39.
Последние удары ей нанесли Черная Смерть, хотя эпидемия чумы в Шотландии не причинила таких ужасных бедствий, {226} 226 Chron. Jordun, I, p. 366; Chron. Bower, II, p. 347; Chron. Wyntoun, II, p. 479.
как в других краях, и особенно — нескончаемая война с Англией. Сохранилась вольная грамота короля Роберта Брюса, выданная одному из крестьян. Она гласит, что Эдам, сын Эдама, «не является нашим подневольным человеком или нифом» (поп est homo noster Hgius seu nativus); он и четыре его сына вольны переселяться куда угодно со своим имуществом (libere valeat transferre ubicunque voluerit) и навеки освобождаются «от всякого ига и бремени неволи» (ab omni jugo et onere servitutis). {227} 227 RMS, I, App. I, № 67.
, [66] Грамота выдана в Эбердине 10 сентября 1319 г. и озаглавлена «Libertas Ade fllii Adam recognita coram camerario et justiciario» — вольная была заключена в присутствии королевского казначея и юстициария.
Последний раз сервы упоминаются в Шотландии в 1364 г. {228} 228 DSH.p. 198.
Конечно, тот же процесс личного освобождения крестьян проходил и в Англии. Однако необходимо еще раз подчеркнуть, что Шотландия была страной с сильными кельтскими традициями и преобладанием скотоводческого хозяйства. Несвободные крестьяне были сравнительно малочисленны и во всяком случае никогда не составляли столь высокую долю населения, как в Англии. Точные подсчеты невозможны, но достаточно сказать, что примерно на половине территории Шотландии, включая Нагорье, острова, Гэллоуэй и другие области, серваж был совершенно неизвестен. К сожалению, именно эти районы хуже всего представлены в документах. С другой стороны, нет оснований считать, что несвободное крестьянство численно превосходило фригольдеров даже в земледельческих районах, поскольку знакомые по Англии понятия servi и villani в шотландских источниках редки, а в отношении таких категорий, как husbandi и cottarii, не установлено, в какой мере они были прикреплены к земле и были ли вообще. Личная зависимость в Шотландии имела весьма ограниченное распространение во времени и пространстве: ее еще не было до XII в. и уже не было после середины XIV. Быть может, именно малочисленность класса несвободных крестьян объясняет его быстрое исчезновение.
Кроме описанных категорий крестьян, чей статус не всегда можно определить, существовали и другие, которые, несомненно, означали свободных держателей, например «гресмены» (gresmanni). Они получали в надел участок не пашни, а пастбища, за который платили оброк, иногда, видимо, сеном, так как в документах из графства Энгус есть упоминание о «луговом кейне». {229} 229 Barrow, Kingdom, pp. 38–9; APS, I, p. 404.
Пастбище оценивалось не по размеру, а по численности стада, которое на нем кормилось. В XIII в. два крестьянина, охранявших лес аббатства Линдорс и заготовлявших топливо, имели участки, где один мог пасти двух коров и десять овец, а другой — двух коров, двадцать овец и коня. {230} 230 Lindores Chartulary, №№ 137,140.
К фригольдерам относились также «сержанты», известные с начала XIII в. на королевском домене, {231} 231 Duncan, Scotland, p. 327.
да и сам термин liberetenentes обычен в XIII–XIV вв. В Шотландии никогда не было пропасти между простым происхождением и благородством, и слой свободных держателей объединял верхушку крестьянства и мелких лэрдов.
Читать дальше