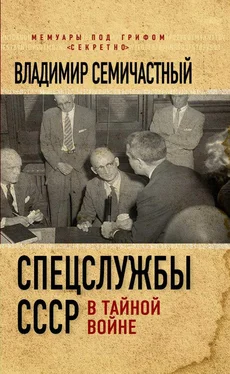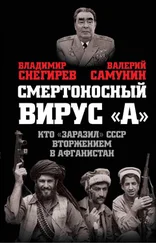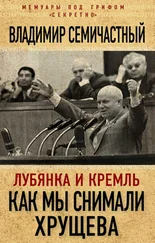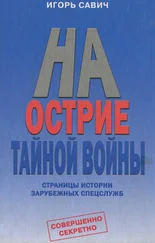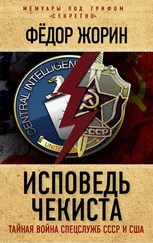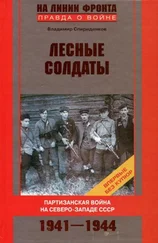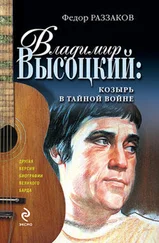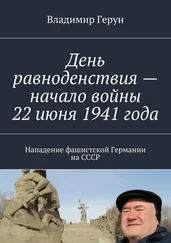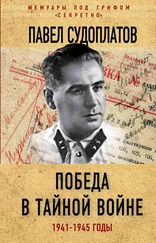Такие же взгляды на разведчиков имели подчас и наши дипломаты в ряде стран. У работников разведки машины были лучше, с более сильными моторами, чтобы в случае необходимости они могли легко оторваться от преследователей. Завеса тайны над их миссией не раз нервировала дипломатов. Если вдруг наши сотрудники не появлялись на работе, на своем официальном месте, служившем им «крышей», то их окружение не знало, где они находились в тот день и чем были заняты, хотя разведчик мог за день проехать сотни километров для встречи в другом уголке страны пребывания. Да и частые «болезни» служили им лишь ширмой. Этот «свободный» режим наших сотрудников вызывал неодобрение работников посольств и миссий. Но ввести для разведчика такой же служебный режим, как и для дипломатов, было невозможно.
Обычно работники посольств со стопроцентной уверенностью не знали, кто служит в КГБ, а потому, случалось, подозревали друг друга. Точные сведения имел только посол. Список должностей, на которых могли появляться работники КГБ, был закрытым, иначе контрразведчики противника легко разгадали бы, кто есть кто. И численно наши возможности в рамках посольств не были безграничными — здесь действовали строгие паритетные квоты. Ни одна западная страна не предоставляла советскому персоналу посольства больше мест, чем сама могла получить у нас в Москве для своей миссии. Кроме того, свои запросы были и у ГРУ. Поэтому речь могла идти лишь о единицах работников в посольстве, а уж вовсе не о десятках разведчиков.
Где и сколько будет выделено мест, решал ЦК вместе с нами и министром иностранных дел. Отношения между нами и МИДом, которым тогда руководил Андрей Громыко, были определены соответствующими договоренностями. Свою волю Громыко обычно старался навязать нам самым решительным образом и если уступал, то только под давлением высшего руководства ЦК.
В самой же стране пребывания сетью наших агентов руководили отдельные разведчики. Они встречались с агентами, получали от них информацию, передавали пожелания и указания из Москвы. Резидент — самый высокопоставленный работник КГБ в советской заграничной колонии — координировал акции на всей территории страны и обеспечивал связь с московским центром.
Если же оказывалось, что нам в каких-то западных странах недостаточно собственных сил или же мы, несмотря на все наши старания, не могли попасть туда, куда нам было нужно, тогда для выполнения некоторых частных задач мы использовали дипломатов, работников торгпредств, журналистов.
Однако не каждый на это соглашался. В таких случаях зависело от резидента, сумеет ли он того или иного конкретного человека уговорить. Однако слишком обременять коллег им не следовало; нередко чрезмерный нажим приносил больше вреда, чем пользы.
Многие советские послы, приезжая в Москву по делам или во время своего отпуска, заглядывали и к нам на Лубянку. Нередко они просили: позвольте нам пользоваться всей информацией, которая проходит через ваше учреждение и которую в центр посылают резиденты КГБ. Некоторые послы даже ставили эти вопросы в ЦК партии.
Были попытки подчинить всех работников посольств, в том числе и работавших «под крышей» разведчиков, послам и всю информацию посылать в центр только через них. Суслов однажды даже дал такое указание на совещании послов. Когда мне доложили об этом, я тут же снял трубку и позвонил Хрущеву. Тот устроил Суслову разнос и заставил исправлять допущенную ошибку.
Разговор между мною и недовольными послами сводился к разъяснению, что конкретные имена агентов мы не сообщаем даже руководителям ЦК партии и правительству. Подобным же образом поступали и руководители аналогичных служб других стран, скажем, Мильке в ГДР.
А некоторым я просто объяснял: «Хорошо, допустим, вы будете полностью информированы. Но если произойдет утечка информации, то начнется очень строгая проверка всех, кто был осведомлен, чтобы установить виновных в утечке. Это затронет и вас. Принимаете эти условия?»
Обычно даже самый упорный посол при таком повороте разговора начинал понимать, что знание строго тайных вещей может оказаться непосильной и довольно опасной ношей, которая не уравновешивает права быть осведомленным. За таким правом стоят ответственность за разглашение и обязанность молчать. На том спор и кончался.
Часть получаемых сведений резидент зашифровывал и отправлял в разведывательный центр. Там ими начинало заниматься аналитическое отделение Первого главного управления, состоящее из опытных специалистов. Среди аналитиков бывали и чекисты, раскрытые на Западе и потому уже не годившиеся для участия в новых секретных акциях, а также политические эксперты и даже журналисты.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу