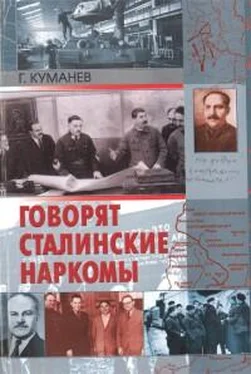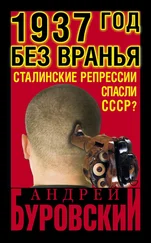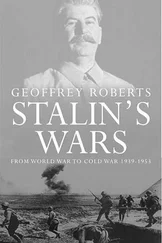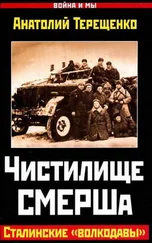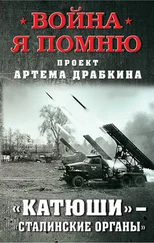Сталин выслушал эти и другие факты плохой боевой готовности приграничных военных округов и полувопросительным тоном заметил: «Вы, товарищи военные, такими действиями поможете спровоцировать военный конфликт с фашистской Германией. В таком виде развертывать наши войска нельзя».
Военные молчали. Может быть, именно этот доклад и вспоминал Николай Федорович Ватутин три года спустя и незадолго до своей кончины.
Таким образом, и эта попытка военных руководителей повысить боевую готовность войск ни к чему не привела, кроме очередного напоминания Сталина не поддаваться на возможные провокации немцев. Еще в конце мая 1941 г. он мне сказал:
— Продолжайте, товарищ Ковалев, внимательно следить за поставками в Германию всего, что предусмотрено договором. Поезда должны поступать к ним минута в минуту, чтобы не было к нам никаких претензий.
Это мне тоже вменили в обязанность, как заместителю наркома госконтроля: контролировать наши поставки пшеницы и стратегических цветных металлов в фашистскую Германию. Сами мы остро нуждались и в том и в другом, но — вывозили к будущему противнику. Сталин верил, что этими поставками, политической осторожностью и прочими мерами он убережет страну от гитлеровской агрессии и мировой войны. На худой конец — оттянет наше в нее вступление на полтора, а то и два года. И здесь культ Сталина обернулся прямым ущербом в смысле экономической готовности СССР и особенно морально–политической — народ верил, что война с фашистской Германией не разразится, коль Сталин является противником ее развязывания.
Правда, в середине мая 1941 г., после того как число немецких дивизий, сосредоточенных на нашей границе, перевалило за сотню Сталин разрешил Генеральному штабу начать выдвижение войск Красной Армии из внутренних округов на запад. Были двинуты четыре армии и ряд соединений. Однако боеготовность этих корпусов и дивизий оставляла желать лучшего. Они не были пополнены личным составом до штатной численности. Пополним, дескать, на месте назначения.
Погрузили в эшелоны артиллерию, а транспортом опять–таки решили обеспечить на месте. Как и снарядами, и патронами, и снаряжением, и даже саперным инструментом. Зато погрузили в эшелоны массу различного оборудования и вещей, нужных в мирное время, но бесполезных и даже вредных (ибо балласт всегда вреден) на войне. Да и настроение было у людей более подходящее к выезду в летние лагеря, чем к линии возможного и скорого соприкосновения с противником. Ни один политработник не мог даже намекнуть солдатам на военный вариант этого движения эшелонов в сторону границы. Наоборот, вплоть до 22 июня даже в приграничных округах читались лекции преимущественно о выгодах мирного договора с Германией.
Сообщаю Вам об этом, уважаемый Георгий Александрович, не только потому, что и сегодня саднит сердце при воспоминаниях о тогдашнем благодушии и неготовности. Отмечаю это потому, что, к глубокому сожалению, и в нынешние дни, в периоды улучшения международной обстановки, наши средства массовой информации впадают зачастую в детские восторги и благодушие. Забывают, а скорей всего, не знают, что психологическая неготовность к тяжким испытаниям бывает не менее страшной, чем неготовность техническая.
В этих средствах информации — в газетах, на телевидении и на радио — есть много хороших специалистов: политиков, искусствоведов, природоведов, медиков и так далее. Но нет военных историков.
Я тоже слушатель, читатель и зритель. Однако не могу вспомнить ни одного — пусть юбилейного выступления, в котором автор–исто- рик спросил бы и себя, и всю многомиллионную аудиторию: почему в двух мировых войнах XX века противник нас опережал во времени? Почему старая Россия, переоснащая и перевооружая свою армию, планировала привести ее в наилучшее боевое состояние к 1917–1918 годам, а противник начал войну в 1914 г.? Почему Советский Союз, перевооружая армию, наметил конечный срок в 1942–1943 гг., а противник напал в 1941‑м? Случайность? Нет!
Однако не рыдать над прошлым призываю я Вас и всех, кто будет читать эти строки. Необходимо трезво помнить о прошлом, анализировать его, извлекать должные уроки. Это дело не только специалистов по военной истории. Это дело общее, народное. Потому, что за ошибки и невежество специалистов и неспециалистов расплачивается всегда миллионная масса — народ…
Фашистское командование уже заканчивало сосредоточение трех своих основных войсковых группировок на советской границе, германское министерство иностранных дел предъявило ноту нашему руководству и просило объяснения: почему советская 16‑я армия из Забайкалья перебрасывается по железной дороге на запад? Сталин приказал маршалу Тимошенко временно завернуть эшелоны 16‑й на юг и сообщить в Берлин, что армия направляется к персидской границе — на случай, если англичане попробуют нанести удар из
Читать дальше