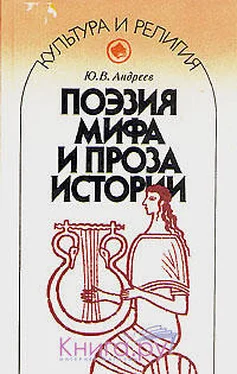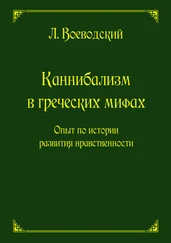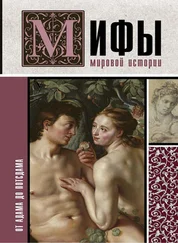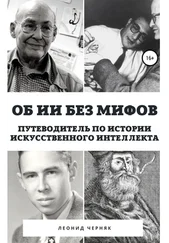Мысль о том, что события на Гиссарлыке могли разыгрываться по такой или примерно такой схеме, приходила в голову многим ученым. В разное время ее высказывали как историки, так и филологи-классики. Однако, если эта догадка верна и Троя VIIa была действительно разрушена вовсе не микенскими греками, а какой-то кочующей ордой, участвовавшей в грандиозном передвижении племен, повергшем в ужас весь Древний мир в последние века II тысячелетия до н. э., тогда перед нами встает вполне законный вопрос — каким образом этот, в общем не столь уж значительный, исторический эпизод мог стать в дальнейшем тем сюжетным стержнем, вокруг которого уже во второй половине VIII века до н. э. сформировался греческий национальный эпос, если, конечно, исходить из того, что между гибелью седьмого поселения на Гиссарлыке и сюжетом «Илиады» все же существует какая-то связь?
Некоторые авторы, например англо-американский историк М. Финли, допускают, что в составе орды, предавшей мечу и огню Трою VIIa, могли оказаться и отдельные дружины ахейских пиратов. В то время немало таких искателей приключений блуждало по всему Средиземноморью, действуя иногда на свой страх и риск, иногда же примыкая к более крупным племенным коалициям. Впоследствии, как думает Финли, произошло смещение реальной исторической перспективы, и ахейские авантюристы, затесавшиеся в варварскую орду, опустошавшую Троаду, по прихоти сказителей, сохранивших воспоминания об этом событии, выдвинулись на первый план, став главными действующими лицами всего эпического повествования, причем их образы постепенно слились с образами древних микенских царей и героев.
Еще более замысловатая гипотеза, направленная к той же самой цели — установить связь между реальной историей городища Гиссарлык в той мере, в которой ее удалось проследить археологам, и отчасти явно вымышленными, отчасти, вероятно, происходившими на самом деле событиями, о которых поведали миру Гомер и другие древние поэты, была выдвинута известным австрийским историком Фр. Шахермайром. В его понимании в основной сюжетной линии гомеровского эпоса совместились два разнородных и разновременных события, происходивших на Гиссарлыке, — гибель Трои VI около 1300 года до н. э. [22] Как думает Шахермайр, она действительно была сначала разрушена землетрясением, но это только облегчило задачу осаждавших ее ахейцев, которые ворвались в цитадель через образовавшиеся проломы в стене и погубили все то, что еще не успела погубить грозная стихия. Позже это событие породило причудливое сказание об огромном деревянном коне, с помощью которого греки проникли в Трою, — конь у греков издавна считался символом и одним из воплощений могучего повелителя морской пучины Посейдона, на которого в древности возлагалась главная ответственность за подземные толчки и связанные с ними катастрофы. Отсюда и распространенное прозвище этого божества — «3емлеколебатель».
и разрушение Трои VIIa в конце XIII века до н. э., в котором микенские греки, по-видимому, уже не принимали прямого участия.
Возможен, однако, и еще один подход к той же проблеме, если предположить, что события, засвидетельствованные раскопками на Гиссарлыке (само слово «засвидетельствованные» здесь, конечно, может быть употреблено лишь условно, ибо мы все еще не можем с уверенностью сказать, была ли Троя VIIa сожжена врагами или же сгорела от какой-нибудь случайной причины, например от удара молнии или же просто от угля, выпавшего из жаровни), вообще никак не связаны с теми событиями, о которых повествует гомеровский эпос, или же если такая связь существует, то носит вторичный и искусственный характер. И здесь нам поневоле придется вспомнить о том, о чем либо вообще не думали, либо старались забыть, не придавая этому факту особого значения, и Шлиман, и Дерпфельд, и Блеген, и многие другие археологи и историки, свято уверовавшие в историческую реальность Троянской войны в том или приблизительно в том виде, в котором ее изобразил Гомер. Пожалуй, лучше других сказал об этом известный современный лингвист Дж. Чедвик, принимавший, активное участие в дешифровке микенской письменности: «Важно помнить, что Гомер был поэтом, а не историком. Поэтическая правда и правда историческая — это два совершенно различных предмета. Поэзия имеет дело с неизменными, вечными ценностями, история — с фактами и событиями… Искать у Гомера подлинные исторические факты — столь же тщетное занятие, как и штудировать микенские таблички в поисках поэзии. Они принадлежат к различным мирам».
Читать дальше