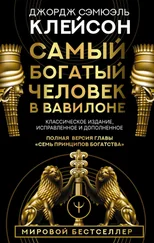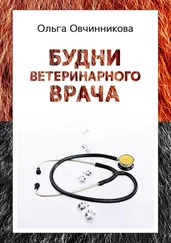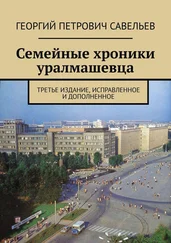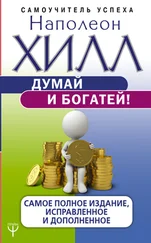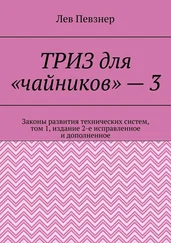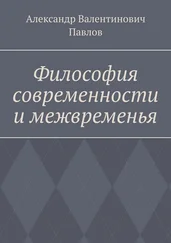Именно поэтому у человечества нет однажды и навсегда записанной истории. Каждое поколение с высоты своего опыта пытается историю переписать. В связи с этим появляется искус ее подкрасить и ретушировать, несколько облагородив неприглядность того, что было в «настоящей» реальности. А то и вовсе поставить с ног на голову.
Вот потому-то, кстати говоря, один известный наш историк, М. Н. Покровский, любил говаривать, что «история есть политика, обращенная в прошлое».
Он сам активно этим занимался в период 1921—1927 гг., когда СССР стоял перед перспективой сталинского «большого скачка» и разные там архаические дореволюционные трактовки нашего прошлого, по мнению высшего руководства страны, могли пагубным образом сказаться на ускоренном строительстве светлого будущего. Так что Михаил Николаевич знал толк в том деле, которое делал. Сейчас нечто подобное мы можем видеть в потугах наших западных коллег переписать историю Второй мировой войны, выставив главными победителями в ней не СССР, а себя, родимых. Делается это не из чувства уязвленного самолюбия, а по вполне осязаемым политическим причинам, о которых я скажу чуть ниже. Сменившееся за истекшие семьдесят лет с момента окончания войны поколение землян, которые в сознательном возрасте застали и пережили это ужасающее событие мировой истории, этому объективно способствует. Словом, как метко выразился в свое время замечательный французский мыслитель Д. Дидро: «В истории любого народа найдется немало страниц, которые были бы великолепны, будь они правдой».
Но означает ли это положение дел, что историю нельзя познать в силу пагубности человеческой природы, не способной учиться на собственных ошибках? Утверждать так было бы другой крайностью. Более того, именно достоверные исторические знания служат залогом нормального функционирования целых отраслей жизни современного общества. Например, в практической политике большое значение играет фактор прецедента. В тех случаях, когда проведение какой-либо процедуры или принятие какого-либо решения не описывается действующими регламентами или законодательными актами, обращаются к историческим прецедентам. Поэтому знание тонкостей политической истории не является плодом только досужего любопытства. Те же проблемы часто возникают при разрешении дипломатических споров. Так, оконченная в 2005 г. делимитация русско-китайской границы в числе прочего опирается на традиции подобной же делимитации, прописанные в целом ряде прежних соглашений с китайской стороной начиная с Нерчинского трактата 1689 г., впервые обозначившего границу между двумя странами. В том числе и на исторические прецеденты и традиции опираются разработчики новых законов и узаконений и пр.
Насущную потребность в исторических знаниях можно ярко проиллюстрировать на примере истории техники. Детальный анализ характера и причин крушений самолетов, судов, разрушений электростанций, мостов и пр., изучение влияния на эти катастрофы техногенных и человеческих факторов, по сути, напрямую служит спасению человеческих жизней в будущем. Все вы, конечно, знаете о катастрофе суперлайнера «Титаник» в 1912 г. Этот корабль по замыслу его создателей был не просто самым современным в мире. Он должен был взять «Голубую ленту Атлантики» – неофициальный приз по скорости преодоления Атлантического океана и удерживать его минимум лет десять. Но случилось то, что случилось. Гибель этого корабля-символа наступающего века привлекла к нему всеобщее внимание. Она дала сюжет для немыслимого количеств журналистских расследований, романов, киносценариев и пр. Как вы знаете, сюжет этот был экранизирован четыре раза, не считая документального кино. Много на эту тему было написано и исторических трудов. Эти исследования позволили по минутам восстановить хронологию развития катастрофы и вкупе с сугубо техническим анализом ее причин существенно скорректировать наши подходы к живучести современных океанских кораблей, разработать жесткие нормативы расселения пассажиров этого плавучего города, сформулировать правила поведения в чрезвычайных ситуациях для команды и пассажиров, определить требования к спасательному оборудованию и т. д.
И, кстати говоря, коли я тут вспомнил об этом, уроки «Титаника» оказались востребованными гораздо раньше, нежели вы думаете. Дело в том, что в 1909—1911 гг. на верфях в Белфасте строился не один, как это представляется современному читателю, а целых три однотипных корабля. Первый из них, получивший имя «Олимпик», стал рабочей лошадкой Атлантики и, без лишней помпы отплавав свой век, был благополучно разрезан на иголки, кажется, в 1935 г. на судоверфях в Саутгемптоне. Вторым сошел со стапелей уже упоминавшийся нами герой будущих фильмов-катастроф. Но был еще и третий экземпляр.
Читать дальше
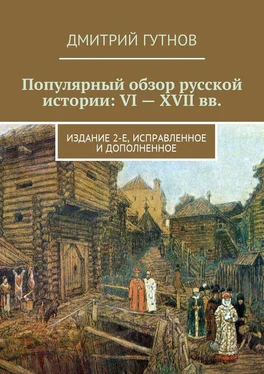

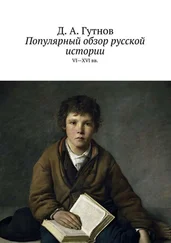
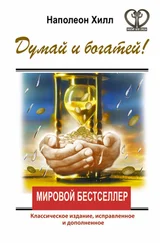

![Коллектив авторов Биографии и мемуары - Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля [второе издание, исправленное и дополненное]](/books/430445/kollektiv-avtorov-biografii-i-memuary-kovalinaya-kn-thumb.webp)