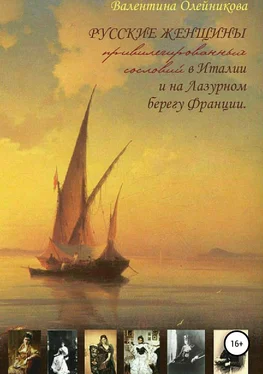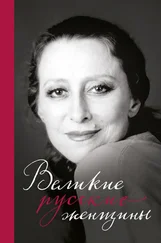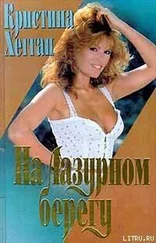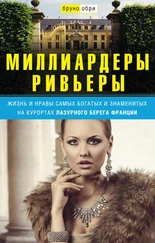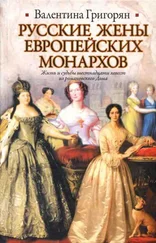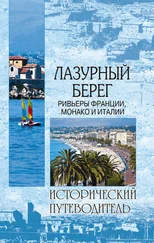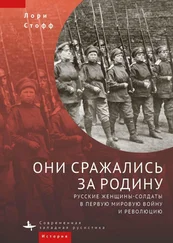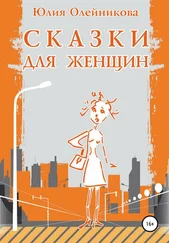Возникновение же первой «русской колонии» в Италии – в Ницце – относится к 1774 г., когда русская военно-морская эскадра под командованием Орловых облюбовала бухту Вильфранш (итал Виллафранко) как постоянную стоянку на Средиземном море. Орловы заплатили князю аренду за 50 лет вперед и оборудовали «русскую батарею», лазарет, канатную мастерскую [126] Le Roy E. La colonie russe dans les Alpes-Maritimes des origins a 1939. – Nice, 1988. – P. 23.
. А с начала XIX века этот небольшой приморский городок стал излюбленным местом не только кратковременного отдыха, но и длительного проживания семейств русских аристократов и иных состоятельных эмигрантов.
Вскоре появились первые русские аристократы во Флоренции, Риме, Неаполе. В основном состав колоний наших соотечественников был самым аристократическим. Он был «невелик – не более ста семейств, но не менее половины из них относились к самым известным и титулованным фамилиям старых дворянских родов и высших кругов чиновничества» [127] Нечаев С.Ю. Русская Италия. – М., 2008. – С. 129.
. Общественная и интеллектуальная жизнь там развивалась под влиянием не только знатных представителей русского бомонда – Бутурлиных, Волконских, Демидовых, но и творческой молодежи, стажировавшейся в Риме и Неаполе. Официальные же отношения между двумя странами продолжали развиваться в основном в виде визитов царствующих особ и членов правительств.
Александр I вернул дворянам привилегии, отмененные Павлом I, и, главное, восстановил действие «Жалованной грамоты дворянству». Уже в первой половине XIX века были случаи использования крепостными юридического права прекращения крепостной зависимости русских людей, находившихся за границей. Так, камердинер В. С. Трубецкого Великанов, оставив «барина» из-за его «запальчивого» характера, «сделался в 1830 годах комиссионером и полубанкиром приезжавших в Италию русских путешественников и в 1839 г. имел уже в Каррарских горах собственную каменоломню». Приписавшись в России к 1 гильдии, Великанов поставлял мрамор для отделки Исаакиевского собора, храма Спасителя в Москве и других городах [128] Бутурлин Д.М. Записки // Русский Архив. – М., 1897. – С. 615.
.
В начале XIX века выезд русских в Италию продолжал расти, несмотря на то, что в итальянских государствах, в связи с нарастанием революционно-демократических настроений в Европе, ужесточили контроль как в приграничных областях, так и внутри столиц: «господствовала в то время система паспортов. «Gli passaporti» – слышалось на каждом шагу» [129] Погодин М.П. Отрывок из записок // Русский Архив. – СПб., 1865. – С. 891.
. Иностранец же, «думающий посетить священный град Бари, должен был сначала испросить на то позволение от кардинала-архиепископа, папского нунция (посланника – В.О.), а потом от нашей миссии и, наконец, от полицейской префектуры» [130] Муравьев А.Н. Письма, 1841 // Архимандрит Августин (Никитин) «Днесь град Барский радуется» // Нева. 2005. № 11.
.
Но, несмотря на эти сложности, дворяне и творческая интеллигенция продолжали вливаться в «beau monde» на курортах и в столицах итальянских государств. В Ниццу, Сан-Ремо, Лидо, где уже проживало немало состоятельных россиян, устремились и представители первой волны политэмигрантов, прибегнувших к невозвращенчеству как к акту протеста против репрессий правительства после 14 декабря 1825 г. Но выезжать могли только очень обеспеченные дворяне, ибо заграничный паспорт при Николае I уже стоил 250 рублей за полгода пребывания, а «в сороковых годах наложена была плата на заграничный паспорт в 500 рублей, с целью ограничить число уезжающих русских, стремившихся пожить в Европе. Но даже эти меры помогали мало» [131] Панаева А.И. Воспоминания (1824–1870). – Л., 1927. – С. 134.
. Н. В. Гоголь в 1838 г. из Рима в письме к своему другу А. С. Данилевскому отмечал: «Здесь теперь гибель, толпа страшная иностранцев и между ними немало русских» [132] Вересаев В.В. Гоголь в жизни // Систематический свод подлинных свидетельств современников. – М., 1990. – С. 226.
. Российские дворяне, хорошо зная, что в каждом законе есть исключения, нашли способы освобождаться от оплаты заграничного паспорта: «Те освобождались от этой платы, кто представлял свидетельство от авторитетных докторов, что болезнь их пациента безотлагательно требует лечения заграничными водами. Понятно, что все богатые люди добывали себе легко такие свидетельства и даром получали паспорты» [133] Панаева А.И. Воспоминания (1824–1870). – Л., 1927. – С. 134.
.
Читать дальше