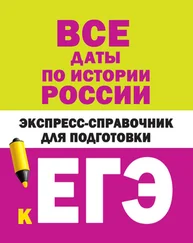Впрочем, вопрос о существовании у славян дружины в рассматриваемый период из-за отсутствия прямых свидетельств источников вряд ли может быть решен однозначно. Сам М.Б. Свердлов основывает свои выводы, опираясь главным образом на описание Тацитом этого института в германском обществе. Тот же источник лежит в основе реконструкции им статуса князя у славян VI – начала VII в. По археологическим материалам, относящимся к данному периоду, прослеживается одинаково бедный обряд погребения, характерный для славянских археологических культур, что, как отмечает исследователь, свидетельствует об отсутствии еще в это время социального неравенства либо практики ее фиксации в погребальном ритуале. Тем не менее, полагает он, внутреннее социально-экономическое и политическое развитие славянских племен, их тесные контакты с Византией, германцами и аварами, вероятно, способствовали ускоренному выделению княжеской власти из системы традиционных племенных институтов (16, с. 80– 81). Не исключено, однако, что идея о зарождении у славян в VIVII вв. института княжеской власти является модернизацией исторического процесса (см.: 7, с. 35).
Несомненно, что словене и анты, являвшиеся весьма обширными группировками славян к моменту начала их Расселения, включали в себя ряд общностей. Однако названия таких общностей, которые принято считать «племенами» или «союзами племен», появляются в источниках только начиная с VII в. и, судя по их этимологии, являются новыми названиями этнополитических структур, которые в праславянскую эпоху, до Расселения, бесспорно не существовали. Смена большей части этнонимов, по мнению А.А. Горского, предполагает, что в результате Расселения прежняя (очевидно, племенная) структура праславянского общества была разрушена и сформировались новые сообщества, носившие уже не кровнородственный, а территориально-политический характер. Для обозначения этих славянских сообществ, считает он, больше подходят термины «племенные княжества» и «союзы племенных княжеств», «поскольку этнополитическая структура раннесредневекового славянства была хотя еще и догосударственной, но уже постплеменной, являла собой переходный этап от племенного строя к государственному, и формирование славянских государств происходило на основе именно этой переходной этнополитической структуры (а не непосредственно из племенной, как часто подразумевается в историографии)» (1, с. 14).
Соответственно, иначе, с точки зрения А.А. Горского, должна рассматриваться и проблема так называемой «племенной знати», существование которой у славян в период до образования государств также является общим местом в историографии и, казалось бы, не должно вызывать сомнений. Племенную старши́ну восточных славян, которая, собственно, и могла только составлять основную массу племенной знати, долгое время видели в упоминаемых в русском Начальном летописании «старцах» и «старейшинах». Но анализ употребления этих терминов в древнерусской письменности показал, что они являются книжными и не несут информации о реальных общественных категориях. В источниках, относящихся к другим регионам раннесредневекового славянского мира, отсутствуют надежные данные о наличии племенной старши́ны. В них явно преобладают термины – «мужи» князя, «други», fideles («верные»), nobiles viri fideles («благородные мужи верные»), homines («люди») князя, optimates («лучшие») и т.п., – которые, с точки зрения исследователя, указывают на служилый, «дружинный», характер знати. «Племенная знать», пишет он, несомненно, существовала в праславянских племенах «дорасселенческого» периода, но в ходе расселения в результате слома старой племенной структуры основная ее часть – племенная старши́на – утратила свои позиции, все больше уступая место новой, служилой знати, не связанной с родовыми и племенными институтами, формировавшейся по принципу личной верности предводителю – князю (1, с. 19).
М.Б. Свердлов отдает предпочтение понятию «племенное княжение» – общепринятому в современной историографии, отмечая при этом, что термин «племенное княжество» упреждает формирование княжества как определенной государственной структуры во главе с князем (16, с. 87). Князь племенного княжения, полагает он, вероятно, действовал еще в рамках традиций племенного строя в исполнении своих административных, судебных и, возможно, воеводских функций. Можно лишь предполагать, что его роль в какой-то из этих сфер возросла, о чем косвенно свидетельствует сватовство древлянского князя к вдове великого русского князя, которой вряд ли могли предложить в мужья малозначимое племенное должностное лицо. По мнению М.Б. Свердлова, племенные князья могли быть в числе «светлых и великих князей», которые фигурируют в договоре 911 г. Руси с Византией в качестве находящихся «под рукою» великого князя русского Олега. Такой их титул может свидетельствовать о высоком статусе глав племенных княжений как внутри этих княжений, так и в общерусском контексте (16, с. 89).
Читать дальше