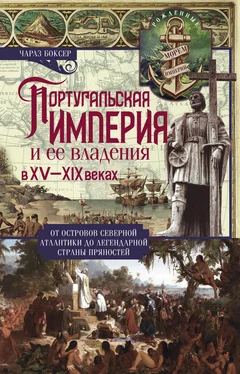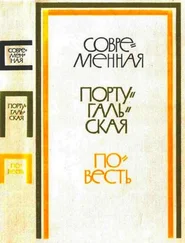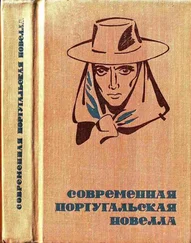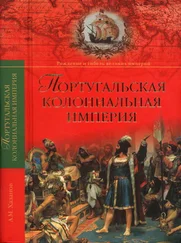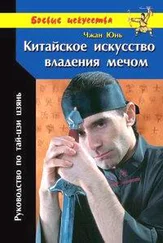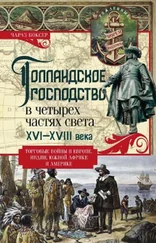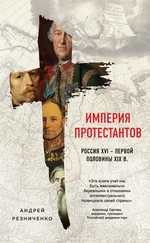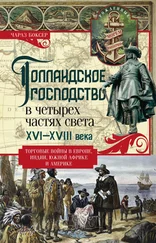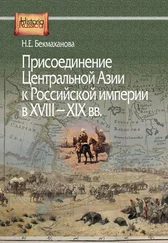Люди Северной Африки были белыми, составной частью единого великого мира Средиземноморья. Во-вторых, даже если ожесточенная борьба за главенство над полуостровом была отмечена периодами взаимной терпимости, то к XV в. этому пришел конец. Встречи представителей трех соперничавших вер, собиравшихся на свои богослужения в одном храме в Толедо на протяжении нескольких лет, окончились без какого-либо результата. Настоящее сближение христиан и мусульман произошло на Сицилии в 1130–1250 гг. при норманнских королях и их наследнике Фридрихе II Гогенштауфене (р. 1194, ум. 1250), прозванном современниками «Stupor Mundi» (Чудо Мира). Во всяком случае, к началу XV в. обстоятельства складывались таким образом, что иберийский христианин, как и его современники – христиане французские, германские и английские, редко упоминал мусульман и иудеев без оскорбительного эпитета. Общим правилом стали ненависть и нетерпимость, а не взаимопонимание, в отношении чужой веры и нации; дух экуменизма, столь распространенный сегодня, в то время блистал своим отсутствием. «Мавры» и «сарацины», как называли мусульман, евреи и иноверцы были обречены, как считали в народе, гореть на том свете в адском огне. Участь их была предрешена заранее.
Религиозная нетерпимость, конечно, была характерна не только для христиан, хотя, возможно, она была наиболее глубоко укоренена в них в сравнении с большинством исповедников другой веры. Но правоверные мусульмане смотрели с ужасом на всех этих христиан, «становившихся сопричастными Богу», что проявлялось в их почитании Святой Троицы, Девы Марии и (до некоторой степени) своих святых. Почитание святых и вера в знамения, суеверия и чудеса распространились, конечно, и среди мусульман. В XV в. эти практики были особенно близки приверженцам суфийских орденов и мистических братств. Но почитание святых и мест их погребений никогда не приводило в исламе к тем крайностям, в которые часто выливался культ святых и их иконных изображений в христианском мире.
Средневековье в Европе было трудной школой, и слабые ростки цивилизации пробивались столь же тяжело не только в Португалии, но и повсюду. Непокорные и вероломные аристократы и мелкопоместное дворянство; невежественное и инертное духовенство; глуповатые и недалекие, хотя и тяжко трудившиеся, крестьяне и рыбаки; ремесленники и поденщики вместе с городскими низами Лиссабона – все они пять столетий спустя были отображены в романах известного португальского писателя Эса ди Кейроша (1845–1900). Он называл лиссабонскую чернь «фанатичной, развращенной и дикой». Именно из этих классов общества набирались будущие первооткрыватели и колонисты. Тому, кто сомневается в этом, необходимо прочесть труды Фернана Лопеша (ок. 1385 – после 1459), «величайшего хрониста всех времен и народов», как Роберт Саути называет официального летописца продолжительного правления короля Жуана I (р. 1357, король 1385–1433), основателя Ависской династии, который был свидетелем начала португальских морских экспедиций.
С падением в 1249 г. Силвиша, последней твердыни мавров в самой южной провинции страны Алгарви, Португалия обрела свои современные границы. Таким образом, она стала не только первым национальным государством в Европе, но изгнала мусульманских захватчиков с территории своей страны более чем за два столетия до завоевания мавританской Гранады Фердинандом и Изабеллой (1492), ознаменовавшего установление господства Кастилии на остальной части Иберийского полуострова. В позднее Средневековье большинство земель Португалии не использовалось, и положение все еще продолжает оставаться таковым по тем же самым причинам. Две трети Португалии занимают горы, склоны круты, и земли слишком каменисты и бесплодны; бедные почвы дают ненадежные и небольшие урожаи. Осадки в виде дождей выпадают крайне нерегулярно: иногда они чрезмерно обильны, иногда случаются засухи. Мало рек, которые судоходны на всем своем протяжении, и резкие колебания в них уровня воды (временами до 100 футов, то есть 30 метров) – одни из наибольших в мире. Дороги находились в ужасном состоянии, даже по средневековым представлениям. Городов и деревень было немного, и их разделяли большие расстояния. Они располагались на вершинах холмов или на расчищенных участках земли среди лесов и необозримых пустошей, поросших кустарником и вереском.
Население достигло максимальной численности около миллиона человек в позднее Средневековье. В Португалии, как и везде, эпидемия «черной смерти», или чумы, в 1348–1349 гг. унесла множество человеческих жизней; а сильно затянувшаяся война с Кастилией в 1383–1411 гг. отрицательно сказалась на населении приграничных областей. Но народ имеет способность к быстрому возрождению после национальных катастроф, и миллионная отметка вновь была достигнута и, возможно, превышена к 1450 г. Единственными городами к северу от реки Тежу (Тахо) были Порту, Брага, Гимарайнш, Коимбра и Браганса. Самым большим городом был Порту с населением около 8 тысяч жителей. Район к югу от реки Тежу (Тахо), наиболее плотно населенный еще при римлянах и мусульманах, отличался большим количеством городских поселений, но все они были крайне малочисленными. Лиссабон с его 40 тысячами жителей был самым большим городом в королевстве, другие города (за исключением Порту) и деревни насчитывали от 500 до 3 тысяч жителей. Хотя Лиссабон не раз становился столицей Португалии, король и двор не всегда пребывали там. Как и большинство монархов времен Средневековья и Возрождения, португальские короли вместе с двором постоянно переезжали с одного места на другое, часто посещая Эвору вплоть до прекращения Ависской династии в 1580 г.
Читать дальше