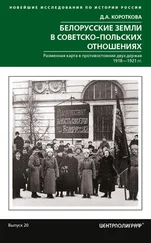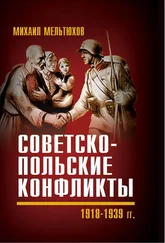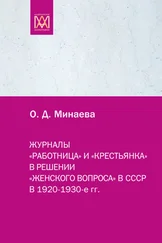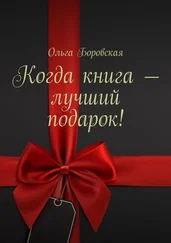Начиная с 1930-х гг. в польской историографии появляются работы, где впервые обращается внимание на неофициальные переговоры в Беловеже и Микошевичах. В рамках исследований Т. Кутшебы [386] и А. Крижановского [379] впервые вводятся в научное употребление воспоминания непосредственных участников переговоров (И. Бернера) или современников (Л. Фишера). Поднимается проблематика сотрудничества польского руководства с «белыми» российскими кругами, раскрываются причины срыва переговоров между Ю. Пилсудским, А. И. Деникиным и А. В. Колчаком (М. Здеховский [456]). В 1930 г. выходит работа члена Польской социалистической партии 3. Зарембы (А. Чарского) [454]. На первый план выступает желание автора доказать вредность для польского общества военной акции 1920 г. («война для реализации мечтаний по реституции исторических границ Польши») [454, s. 57]. 3. Заремба стремится доказать, что представители ППС выступали за скорейшее заключение мира с Советской Россией. Несмотря на некоторую политизированность, в работе впервые сделана попытка дать научную оценку мирным советско-польским переговорам. 3. Заремба, рассматривая борисовский этап, характеризует его как «трагифарс», стремится показать, что мирные условия этого периода были более выгодными для польской стороны, чем предложенные на барановичско-минском или рижском этапах.
Деятели белорусского национального движения И. Я. Воронко [52; 57], А. И. Луцкевич [177], К. С. Дуж-Душевский [85], М. М. Кравцов [122], П. А. Кречевский [129; 130], А. И. Цвикевич [270; 271], К. Б. Езовитов [86] в рамках статей, небольших брошур мемуарного характера пробуют дать свою критическую оценку советско-польским переговорам и Рижскому мирному договору как отдельному объекту исследования. К сожалению, из-за недостатка информации о начальных стадиях переговорного процесса эти авторы сосредотачивают свое внимание исключительно на Рижской мирной конференции. В начале 1921 г. в издательстве «Освобождение» выходит статься «Беларусь и Рижский мир» К. С. Дуж-Душевского [85]. Автор на основе статистических данных переписи 1897 г. подчеркивает незаконность и необоснованность претензий Советской России и Польши на белорусские земли, объявляет сфальсифицированными переписи местного населения, которые проводились польскими властями во время польско-советской войны 1919–1920 гг. В основном, выводы работы К. С. Дуж-Душевского созвучны с тезисами меморандумов и обращений Рады Народных Министров БНР периода 1920–1921 гг.
В советской историографии середины 1940-х – конца 1980-х гг. в той или иной степени вопросы исследуемой нами проблемы освещаются в работах Н. В. Каменской [105–108], Е. Н. Шкляр [288], Н. Ф. Кузьмина [133; 134], П. Н. Ольшанского [216], А. В. Березкина [44], А. П. Грицкевича [64]. Так, в работе Н. В. Каменской [101] дается косвенное освещение процесса советско-польских переговоров, цитируется нотная переписка без раскрытия истинных причин направления того или иного послания. По мнению автора, польское руководство игнорировало мирные предложения Советской России, которые поступали в декабре 1919 г. – марте 1920 г., осуществляло подготовку к новому наступлению на Юго-Западном фронте [105, с. 163–164]. Благодаря усилиям Н. В. Каменской впервые вводятся в научное употребление данные о деятельности Центральной рады Виленщины и Гродненщины, Белорусского национального комитета в Вильно, Белорусской военной комиссии.
Первая и единственная попытка в рамках советской историографии дать целостную картину советско-польских отношений 1918–1921 гг., кульминационным моментом которых стало заключение мирного договора в Риге, была сделана П. Н. Ольшанским [216]. Автор несколько дистанцирует польскую сторону от лагеря стран Антанты, показывает противоречия, которые возникали между Великобританией, Францией и Польшей, русским «белым» лагерем и Польским государством. При этом не анализируется влияние стран Антанты, особенно Великобритании, которая настаивала на развертывании мирных переговоров с Советской Россией. Автор утверждает, что во время советско-польских переговоров в Минске российско-украинская делегация владела и специально выданными полномочиями от БССР [216, с. 99], хотя ВРК республики на момент с 17 августа до 2 сентября 1920 г. никаких мандатов на ведение переговоров от своего имени никому не передавал. Впервые в советской историографии поэтапно, день за днем, на основе протоколов заседаний показана работа польско-российско-украинской мирной конференции. Ответственность за задержку во время подписания текста Прелиминарного мирного договора автор возлагает на польскую сторону, которая маневрировала и затягивала переговоры в связи с критическим положением П.Н. Врангеля и сильным давлением по этой причине со стороны Франции [216, с. 147].
Читать дальше
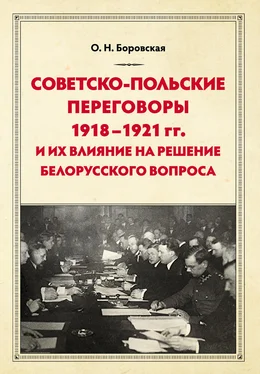
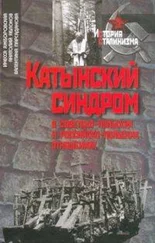
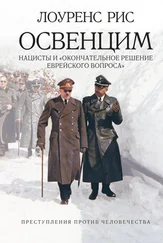
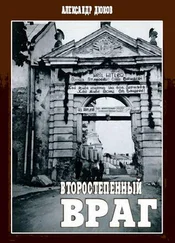
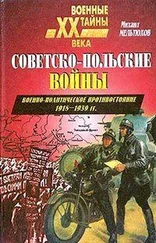

![Ольга Боровская - Советско-польские переговоры 1918–1921 гг. и их влияние на решение белорусского вопроса [litres]](/books/389253/olga-borovskaya-sovetsko-thumb.webp)