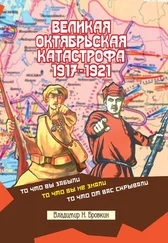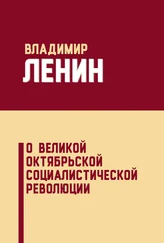С двумя отмеченными чертами: слабостью русской государственности и с примитивностью русской социальной структуры – тесно связана и третья характерная черта нашего революционного процесса – идейная беспомощность и утопичность стремлений русской интеллигенции. Да и как может быть иначе, когда вся наша новая культурная традиция /с Петра/ создана всего лишь восьмью поколениями наших предшественников и когда эта работа резко и безвозвратно отделена от бытовой культуры того периода. За что Россия поплатилась неудачей двух своих революций и бесплодной растратой национальных ценностей, особенно дорогих в небогатой такими ценностями стране.
Конечно, несовершенство и незрелость политической мысли на почве безгосударственности, слабости социальных прослоек не могут явиться единственным объяснением неудач, постигавших до сих пор наше политическое движение. Другим фактором являются бессознательность и темнота русской народной массы, которые, собственно, и сделали утопичным применение к нашей действительности даже идей, частью уже и осуществленных среди народов, подготовленных к непосредственному участию в государственной деятельности. Этот народ, сохранивший мировоззрение иных столетий, предстал перед наблюдателями его психоза почти как какая-то другая раса. Интернационалистическому социализму было легко провести на почве образовавшейся культурной розни глубокую социальную грань и раздуть в яркое пламя социальную вражду народа к «варягам», «земщины» к «дружине», выражаясь славянофильскими терминами. И т. д. /следует ряд соображений на которых я здесь останавливаться не буду/.
Повторяем, философ истории русской революции не сможет обойти всех этих глубоких корней и нитей, связывающих вторую русскую революцию со всем ходом и результатом русского исторического процесса. Но наша задача гораздо проще. Мы ставим себе целью возможно точное и подробное фактическое описание совершившегося на наших глазах. Конец цитаты.
Далее подробности того, что под этим подразумевается и как это осуществляется в данной работе.
Поворот, надо признаться, после всего сказанного достаточно неожиданный. Мы здесь, напротив, в эти подробности углубляться не будем, поскольку не они являются предметом нашего изложения, а те самые корни и нити, связывающие русскую революцию со всем русским прошлым, от которых уходит в своем изложении Милюков. Во всяком случае, декларирует свой уход в этом введении после всех рассуждений о корнях, частично, по крайней мере, выше процитированных.
И еще от чего уходит Милюков – от определения предпосылки перечисленных им особенностей русской истории, той самой, которая делает неизбежными эти особенности, а с ними вместе – и особенности всей состоявшейся русской истории в целом. Чему также будет уделено здесь необходимое внимание. С чего и начнем.
1. Начну /начнем/ с цитаты, удачно, по-моему, формулирующей эту самую предпосылку, как она в данной работе понимается, которой, как было сказано, обязана своими особенностями состоявшаяся уже русская история. А с нею – и интересующие нас события, корни которых уходят глубоко в русское прошлое.
«На Западе природа – мать, на Востоке – мачеха… Уже поэтому обе половины Европы должны были иметь различную историю». /С. М. Соловьев/
Другими словами, упомянутое прошлое, в котором, по Милюкову /и не только/, следует искать корни русской революции, в свою очередь имеет корни – в природе пространства, на котором расположено Русское государство. Логично, если принять во внимание, что природе обязаны мы уже самой возможностью на Земле какой бы то ни было истории. Тем более следует ожидать, что ее регионы, заметно отличающиеся природными условиями, подобно упомянутым половинам Европы, будут иметь и различающуюся историю. Они ее и имели – насколько и пока та и другая Европы, скажем так, могли иметь /позволено им было иметь/ эти различия.
Однако уже в Новое время успехи рыночной экономики и последовавшие за ними изменения в проводимой там и там политике внутренней и внешней /вынужденные ими изменения/ поставили решение этих вопросов в иную плоскость. Европе Западной стало тесно на одной территории с Восточной, которой в этой связи предстояло попросту исчезнуть. Начиная с действовавшего тут режима самодержавия, в котором аккумулировались по тому времени интересующие нас отличия. Или скажем так: Европе предстояло стать сплошным Западом, каким она, если посмотреть из сегодняшнего дня, с теми или другими оговорками, можно сказать, стала. /Хотя, что тут на самом деле «стало», разговор отдельный/.
Читать дальше
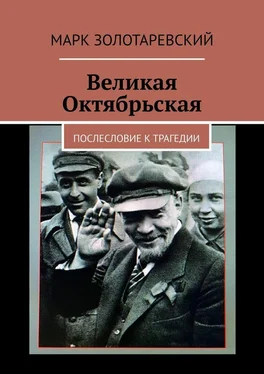
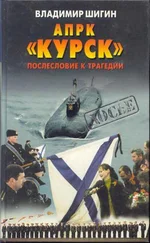

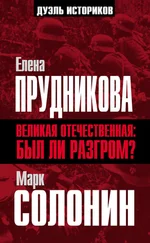
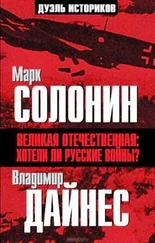
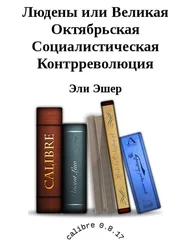
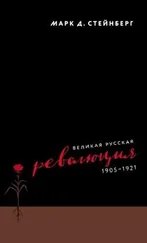
![Лю Юн-нянь - Дружба, скрепленная кровью [Сборник воспоминаний китайских товарищей — участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны в СССР.]](/books/420069/lyu-yun-thumb.webp)