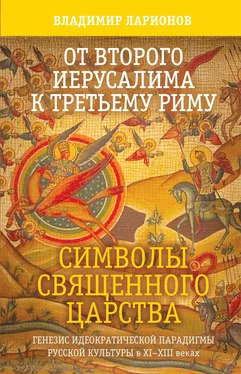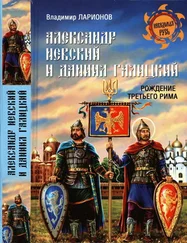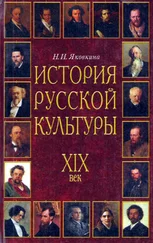Таким образом, мы можем констатировать лишь факт, что границы русского народа, объединенного правлением одной династии и крещеного в православие князем Владимиром, очень четко осознавались летописцем. Эти границы, уже как священные рубежи христианского народа в окружении язычников и иноверцев, будут очерчены через двести лет в памятнике древнерусской письменной культуры – в «Слове о погибели земли Русской». Итак, двенадцать славянских племен древнерусского государственного образования соответствуют двенадцати коленам Израилевым. Но священное для средневекового сознания число двенадцать в «Повести временных лет» не исчерпывается описанием двенадцати восточнославянских племен. Летопись сообщает нам о двенадцати сыновьях князя Владимира. Здесь мы можем усмотреть определенную мысль летописца о том, что князь Владимир выступает в роли праотца нового христианского народа, возглавляемого двенадцатью сыновьями крестителя Руси, уподобляясь ветхозаветным праотцам. Летопись донесла до нас двенадцать имен сыновей Владимира Святославича: 1. Святополк, 2. Вышеслав, 3. Изяслав, 4. Ярослав, 5. Мстислав, 6. Судислав, 7.Станислав, 8. Позвизд, 9. Святослав, 10. Борис, 11. Глеб и 12. Всеволод. Здесь не место подвергать анализу действительное количество детей князя Владимира. Достаточно вспомнить, что некоторые летописные списки знают и еще одного – Мстислава. Но это может быть и опиской переписчика. Нам важно, что летопись в этом перечислении сыновей князя Владимира продолжает моделировать идеологему о символическом преемстве Руси по отношению к «Ветхому Израилю», используя библейскую числовую символику. Владимир наделяет сыновей столами, создавая предпосылки для генезиса древнерусских феодальных княжеств. Сыновья Владимира занимают следующие столы: 1. Новгород, 2. Ростов, 3. Муром, 4. Смоленск, 5. Туров, 6. Владимир Волынский, 7. Полоцк, 8. Тьмутаракань, 9. Псков. Сам Владимир сидит в Киеве. Получается десять стольных градов. У нас нет сведений, какие города получили Станислав и Позвизд. Мы видим, что за пределами данного списка остаются два крупнейших древнерусских города – Чернигов и Переяслав. В дальнейшем картина древнерусских княжеских столов будет меняться, в число главных стольных градов дополнительно выдвинется Галич. После княжения Владимира Мономаха Русь распадается на двенадцать крупных удельных княжений. Дробление княжеств происходило и дальше, но изначальное число крупных княжений очень точно сопоставимо с числом детей князя Владимира и количеством восточнославянских племен, вошедших при крещении Руси в единый государственный организм. Это: 1. Новгородская земля, 2. Владимиро-Суздальское княжество, 3. Муромо-Рязанское княжество, 4. Смоленское княжество, 5. Полоцкое княжество, 6. Черниговское княжество, 7. Переяславское княжество, 8. Киевское княжество, 9. Турово-Пинское княжество, 10. Волынское княжество, 11. Галическое княжество и 12. Новгород-Северское княжество. Были времена, когда Муромский и Рязанские столы представляли собой разные княжения. Новгород-Северский тоже не сразу выделился из Черниговского княжения. Владимир-Волынский и Галич в конце XII – нач. XIII столетия объединились в одно княжение. До половецкого нашествия на земли Восточной Европы количество древнерусских княжеств дополняла Тьмутараканская земля. Дробление древнерусских княжеств продолжалось в домонгольский и послемонгольский период. Однако именно двенадцать крупных княжений раннего периода определили складывания двенадцати культурно-исторических областей со своей культурной спецификой, которые и в дальнейшем прослеживаются на землях Восточной Европы, несмотря и вопреки тому, что земли эти стали входить в разные государственные образования. Культурная специфика этих земель продолжала свидетельствовать об их органической связи с некогда единым древнерусским государственным организмом. Идейная парадигма раннего средневековья о новом народе – хранителе «Ковчега истинной веры» – во всей его органической племенной совокупности позволила населению, подпавшему под власть сначала Орды, а затем Литвы и Польши, сохранить свою сложившуюся еще во времена Владимира Крестителя этническую и конфессиональную самоидентификацию вплоть до Нового времени.
1.5. Создание новых сакральных топосов на Руси в киевский период
Важной темой в разрезе восприятия культурно-исторического наследия Византии на Руси является вопрос созидания и архитектурного обустройства новых сакральных топосов, которые призваны были «заместить» древние священные центры христианства на территории молодого христианского государства. Речь должна идти об устойчивой тенденции «translatio sacra sites» – переноса, ретрансляции с новой географической привязкой, образа священных мест христианской веры. «С распространением христианства в Восточной Европе в конце X–XI в. Киев, будучи ее главным цивилизационным оплотом и средоточием, не мог стоять в стороне от развития средневековой библейской экзегезы, христианской теологии и эстетики, где иерусалимской идее отводилось почетное место. Мистическая идея Иерусалима зародилась из рефлексий над текстами Ветхого Завета..» [44] Рычка В.М. Киев – Иерусалим на Днепре (опыт осмысления религиозно-политической идеи). Материалы Международной научной конференции в память тысячелетия кончины святого равноапостольного князя Владимира и мученического подвига святых князей Бориса и Глеба, Москва, 14–16 октября 2015 года. М., 2017. С. 516.
[44]. Иерусалим символизировал для христианских народов место встречи Бога и его избранного народа. Как архетип священного города, он стал архитектурным образцом, который воплощался в памятниках сакральной архитектуры новой имперской столицы – Константинополя. «Представление о столице Византийской империи как преемнице Иерусалима основывалось на важнейшей для Ромейской империи идеологии концепции богоизбранности Византии – Нового Израиля. Бог пренебрег иудеями и взамен призвал к себе греков. Он даровал им священство и царство, а также Новый Завет, написанный на греческом языке. Эта идея отчетливо прослеживается, например, в послании константинопольского патриарха Фотия к армянскому каталикосу Захарии (862–876). В нем, в частности, утверждается, что построенный вторым Давидом, то есть святым Константином, Царьград, он же Константинополь, является «вторым Иерусалимом» – городом, в котором сбылось пророчество о непоколебимости Божьего Града: «Бог посреди его, он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра» (Пс. 45:6)» [45] Рычка В.М. Киев – Иерусалим на Днепре (опыт осмысления религиозно-политической идеи). Материалы Международной научной конференции в память тысячелетия кончины святого равноапостольного князя Владимира и мученического подвига святых князей Бориса и Глеба, Москва, 14–16 октября 2015 года. М., 2017. С. 520.
[45]. Немного забегая вперед, отметим, что именно в момент, когда эта незыблемость стала неочевидной, город Константина потерял в глазах христиан черты священного града, наследника Иерусалима. Этим была порождена новая волна «священной ретрансляции» Святого града христианской ойкумены. И случилась эта трагедия в 1204 г. Но к этому вопросу мы вернемся ниже.
Читать дальше