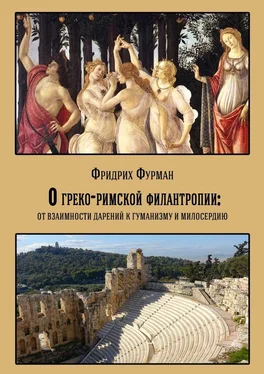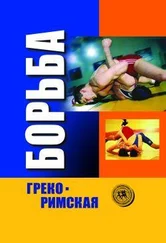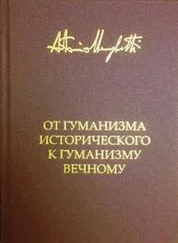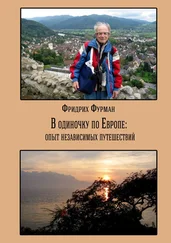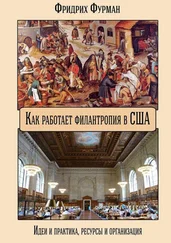Такова была логика существования и выживания в древнем мире – мире неразвитого производства и бесконечных опасностей. На ней и выросла консервативная этика античного мира, когда почитание заветов предков и восприятие родной истории как энциклопедии общинных добродетелей, было не реакционной утопией, а залогом выживания всего полисного мира. В особой мере это относилось к Риму, где связь народа с землей была еще сильнее, чем в Греции.
С другой стороны, быстрое развитие и усиление греческих полисов и римских общин было связано не с земледелием, консервативным от природы, а с ремеслом и торговлей. Последние, расширяя денежный оборот и рынки, следовательно, широкие торговые связи, поощряют завоевательные походы, приносящие городам новые земли и рабов, сокровища и доходы, наконец – новые знания о мире, за которыми могут последовать новые завоевания. На этой основе неизбежно складывается комплекс ценностей, связанных с неукротимым стремлением к обогащению, которое становится таким же естественным, так же соответствующим интересам города, как и заветы предков. Денежное и материальное богатство, как и рабский труд приносили комфорт, создавали досуг, а с ними рост образованности и культуры. Так рядом с идеологией примитивного крестьянского консерватизма возникала и крепла идеология развития, материального и духовного изобилия для свободных граждан полисов и общин – идеология культуры. Оба описанных процесса разворачивались во времени, образуя не только общий облик античной Греции и Рима, но и их историю.
Если говорить о Риме, то аграрная основа ее гражданской общины и ее ремесленное товарно-денежное развитие сосуществовали всегда. Но в архаический период истории Римской республики (5—4 вв. до н.э.) первый процесс был определяющим, второй его дополнял. Между серединой 3-го в. и серединой 2-го в. до н.э. в результате ряда победоносных войн Рим становится хозяином всего Средиземноморья, и положение меняется в корне. В город один за другим вливаются потоки золота, драгоценностей, экзотических товаров, продовольствия и, главное, рабов, становившихся основной производительной силой Рима. Ремесленное производство, связанное с обслуживанием новых войн, растущей бюрократии и множащегося числа богачей – не только патрициев, но и плебеев – быстро развивается, распадаясь на новые отрасли и создавая новые рынки. Крестьяне массами бросают землю и уходят в Рим, где жизнь не только легче, но и веселее. Пользуясь все еще прочными узами родовой и местной солидарности и древним обычаем покровительства со стороны знатных и более богатых граждан, многие из них пополняли в городе «клиентуру» своих патронов. Последние в обмен на разнообразные услуги своих клиентов, включая прославление и поддержку при избрании на почетные и выгодные должности, подкармливали и продвигали их. За счет пришлых крестьян и жителей, покоренных италийских и заморских полисов, растет число граждан Рима, превращая его из замкнутой общины в центр тогдашнего мира. Город украшается храмами, общественными зданиями, театрами и площадями. Быстро растет образованность, литература и искусство, позаимствованные, прежде всего, у греков.
Этот неотвратимый прогресс, принесший Риму материальный и духовный расцвет, не вызывал, однако, восторга в душах многих образованных и знатных римлян. Чем дальше, тем больше многие из них расценивали прошедшее столетие как катастрофу. С. Крисп, римский консул и историк (1-й век до н. э.) писал: «Те, кто с легкостью переносил лишения, опасности, трудности, – непосильным бременем оказались для них досуг и богатство, в иных обстоятельствах желанные. Сперва развилась жажда денег, за нею – жажда власти, и обе стали как бы общим корнем всех бедствий… Зараза расползлась, точно чума, народ переменился в целом, и римская власть из самой справедливой и самой лучшей превратилась в жестокую и нестерпимую» 20 20 Гай Саллюстий Крисп, Заговор Катилины – в «Историки Рима», БАЛ, М., 1970, с. 39—40.
.
Оставаясь в своей основе примитивным аграрным организмом, более всего дорожившим своим прошлым и его ценностями, римское общество на рубеже старой и новой эры отреагировало на обрушившееся на него богатство распадом привычных форм жизни и моральным разложением. Накопленные Римом огромные деньги можно было лишь ограниченно вложить в интенсификацию производства. «…в основном и главном, их можно и нужно было либо прятать, и хранить, либо потребить-проесть, промотать, «простроить» 21 21 Г. Кнабе, 1986, с. 23.
. И, добавим – пожертвовать, то есть раздарить-раздать.
Читать дальше