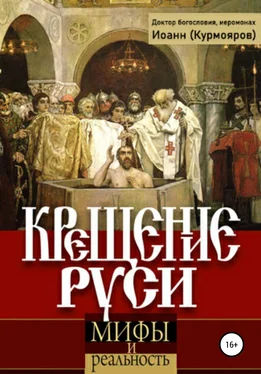Точно так же правовое положение крестьян ухудшалось непрерывно в XVIII веке: «В 1765–1766 годах помещики получили право ссылать своих крестьян не только на поселение в Сибирь (это разрешено было уже Елизаветой Петровной), но и в каторжные работы за «дерзости» помещику. Помещик во всякое время мог отдать крестьянина в солдаты, не дожидаясь времени рекрутского набора. При этом в 1767 году крестьянам императорским указом было запрещено жаловаться государю на помещиков… Права самоуправления, данные в 1775 году всем сословиям империи, не были распространены на частновладельческих крестьян. В 1783 году были закрепощены православные крестьяне Украины. За 35 лет просвещенного правления Екатерины более 800 тысяч лично свободных черносошных крестьян были розданы с землями в рабство фаворитам императрицы. Не следует забывать при этом, что все население империи к концу царствования Екатерины достигало лишь 37 млн. человек, то есть вновь порабощенным оказывался каждый сороковой гражданин России, а доля крепостных в населении империи, постоянно возрастая в течение всего XVIII столетия, достигла к 1795 году максимальной величины – 54 процента… Пока было возможно – крестьяне жаловались на свое положение в Сенат и иные «высшие инстанции». А на запрет подавать жалобы ответили Пугачевским бунтом… Призыв Пугачева «истребить проклятый род дворянский» вызвал огромное воодушевление среди крестьян. «Всему миру известно, – говорилось в одной из прокламаций Пугачева, – сколь российские дворяне обладают крестьянами, и хотя в законе Божием сказано, что с крестьянами надо обходиться как с детьми, они обращаются с ними хуже, чем с собаками своими». В своем манифесте от 31 июля 1774 года Пугачев жаловал «всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, вольностью и свободой вечно казаками». Совершенно не важно, сколь серьезен был Пугачев, провозглашая эти принципы, главное, что они находили живой отклик в народе. Казаки-старообрядцы Яика шли к Пугачеву, боясь, что и их обратят в крепостных, а крепостные пополняли повстанческое войско, надеясь обрести свободу и свести счеты с дворянами. Подавление бунта 1773–1774 годов превратилось в настоящую гражданскую войну, предвосхитившую войну 1917–1922 годов. Уже в крестьянских бунтах 1762–1766 годов, поднятых мужиками против «Матушки Императрицы», участвовало до 150 тысяч человек. Пугачев, по приблизительным расчетам, поднял на борьбу до 400 тысяч… Пугачевская война стала предзнаменованием будущей российской кровавой Смуты…Наши современные ученые, пройдя вместе со всем обществом страшный опыт коммунистической несвободы и человеконенавистничества, также склонны в большой степени оправдывать крепостничество, объясняя его хозяйственной и государственной целесообразностью, особенностями русского менталитета или доказывая мягкость самого крепостного состояния. Очень близкие аргументы выдвигаются и сторонниками советского строя – или советский режим был не так жесток, или он был хоть и жесток, но необходим. В действительности рабское состояние всегда нравственно предосудительно, экономически ущербно, государственно опасно и по определению жестоко» [63].
Таким образом, если учитывать все приведенные факты (и еще большее количество фактов, не вошедших в данный обзор), можно с уверенностью сделать вывод о том, что в русском обществе начала 20-го века произошел некий надрыв, и связан этот надрыв, в первую очередь с отступлением людей от норм христианской жизни в угоду либеральным, имперским и другим ценностям, а с другой стороны – с тяжелейшими условиями существования для большинства населения Российской империи. В противовес этому мы осмеливаемся утверждать, что подобная ситуация не могла бы возникнуть в обществе, где доминирующими являлись бы евангельские ценности. Вот почему в этой связи будет очень полезно сравнить нравственно-религиозную обстановку Древней Руси периода ее Крещения князем Владимиром с тем состоянием российского общества, о котором шла речь в данной главе.
В заключение, перефразируя свт. Игнатия (Брянчанинова), писавшего о соблазнах мира сего и невозможности осуждать соблазнившихся, можно высказать лишь сожаление о случившемся в нашей истории (в том числе, о сложившейся ситуации в области церковно-исторической науки, речь о которой пойдет в следующих главах).
«Христианской мысли всегда было присуще историческое видение, истоки которого заключены в библейских повествованиях. Благодаря Священному Преданию исторический подход к церковной жизни прослеживается на протяжении всего времени существования христианства. Именно поэтому осмысление процессов, происходящих в религиозной жизни, всегда оставалось одной из главных задач церковной науки. Однако эта задача стала решаться в России очень поздно. Еще в 1734 г., когда Российская академия собралась издать хронографы, Святейший Синод сделал следующее замечание: «Рассуждаемо было, что в Академии затевают истории печатать, в чем бумагу и прочий кошт терять будут напрасно…» Такое отношение к истории определялось все тем же схоластическим подходом, который вместо живого восприятия истины довольствовался формально-школьным к ней отношением» (Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви).
Читать дальше