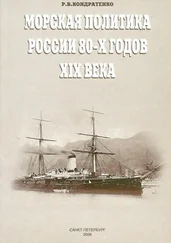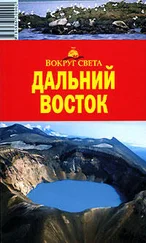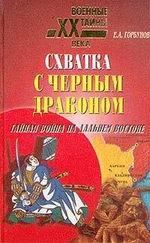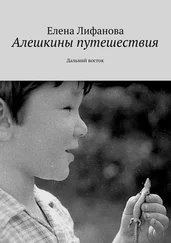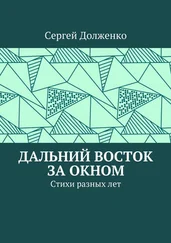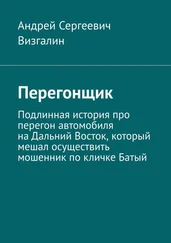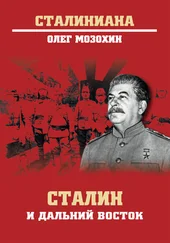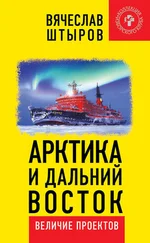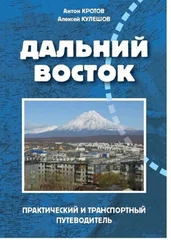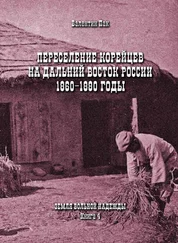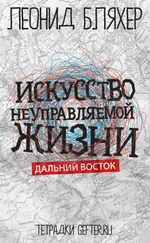На дальневосточной земле раздавались едва ли не последние выстрелы, когда центральные газеты опубликовали телеграмму М.С. Корсакова из Сретенска от 10 июня, кратко сообщавшую о стычке на острове Аскольд, сожжении поста Стрелок и деревни Шкотовой, сопровождавшихся «несколькими убийствами». Затем, уже в начале июля, эти сведения были повторены с незначительными дополнениями. Они, надо полагать, не привлекли к себе пристального внимания читателей, для которых кровавые столкновения войск с обитателями тех или иных окраин империи отнюдь не являлись новостью. Ведь прошло всего три года с момента формального усмирения кавказских горцев, время от времени всё же устраивавших партизанские вылазки, а в Средней Азии открытая борьба всё ещё продолжалась. Не далее как 1 мая генерал-лейтенант К.П. фон-Кауфман разбил пожелавшего избавиться от российского присутствия эмира бухарского и занял Самарканд. Из-за государственной границы также тянуло порохом: лишь к концу апреля завершилась английская экспедиция против абиссинского негуса Феодора, и в те же дни началось очередное восстание на острове Кандия (Крит), в Южной Америке бразильцы сражались с парагвайцами, а через океан, в Японии, армия микадо теснила последние отряды приверженцев сёгуна. Немало пищи для разговоров доставили обывателям известия из Белграда, где 30 мая был убит сербский князь Михаил Обренович, и из Мадрида, откуда стали поступать телеграммы о волнениях, вскоре переросших в революцию.
Одна волна событий накатывала за другой, смывая впечатления от предыдущей. Спустя пару недель в Петербурге, пожалуй, лишь несколько десятков министерских чиновников помнили о взбунтовавшихся манзах. По долгу службы разбирая бумаги, присылавшиеся в столицу из Иркутска и Николаевска-на-Амуре, эти чиновники знакомились с выводами и предложениями руководства Приморской области, пытавшегося извлечь уроки из недавнего кризиса. В обязанности делопроизводителей и начальников отделений входила обработка таких материалов и подготовка на их основе кратких сводок, ложившихся затем на стол министра или какой-нибудь комиссии. Учитывая, однако, что в Российской империи тех лет министры подчинялись непосредственно императору, совместные заседания правительства не практиковались, а сколько-нибудь важные вопросы чаще всего выносились на рассмотрение особых совещаний представителей заинтересованных ведомств, далеко не всегда приходивших к какому-либо определённому решению, учитывая, наконец, становившиеся хроническими бюджетные дефициты, судьбу поступавших из провинции проектов можно было предсказать без особого труда. Как правило, после многолетних блужданий по столичным канцеляриям, они либо «оставлялись без последствий», либо принимались к руководству в заметно урезанном и изменённом виде. Последнее предстояло и плодам творчества лиц, участвовавших в подготовке рапортов контр-адмирала И.В. Фуругельма управляющему Морским министерством, генерал-адъютанту Н.К. Краббе, от 25 сентября, и генерал-лейтенанта М.С. Корсакова военному министру, генералу Д.А. Милютину, от 21 ноября.
Оба рапорта указывали на недостаток вооружённых сил в крае и требовали увеличения численности войск и корабельного состава. Корсаков, сверх того, разработал обширную программу, включавшую перевод в Хабаровку всего управления Приморской областью, соединение нового центра телеграфной линией со Сретенском — конечным пунктом сибирского телеграфа, учреждение флотского опорного пункта в одной из южных гаваней, сформирование конного пограничного отряда и осуществление других назревших мер. По его мнению, значение отошедших к России территорий определялось возможностью «утверждения нашего влияния на водах Восточного океана, где сосредоточены главные торговые интересы западных морских держав и где, поэтому, присутствие нашего крейсерского флота может, до известной степени, уравновешивать наши силы на Западе». Подводя итоги своих рассуждений, генерал-губернатор писал: «Амурские владения наши, по отношению к Империи, могут иметь, в силу своего географического положения, весьма важное политическое значение на Востоке между туземными государствами и особенно в среде колоний, принадлежащих западным европейским державам. Достижением этого значения исключительно обусловливается назначение Приамурского края. В этом смысле край должен выработать себе minimum такое экономическое положение, которое бы давало средства для содержания в нём боевого флота и сухопутного войска, в размере, необходимом для достижения наивыгоднейших политических результатов для государства» 92.
Читать дальше