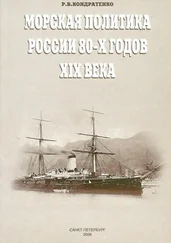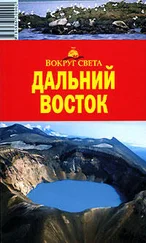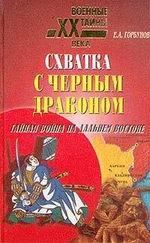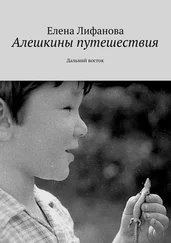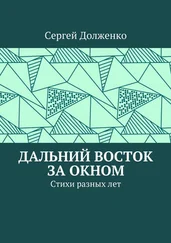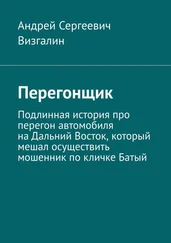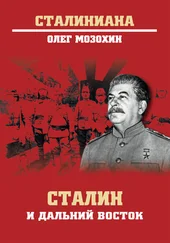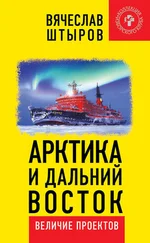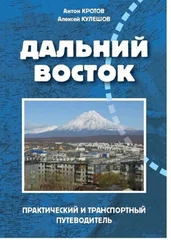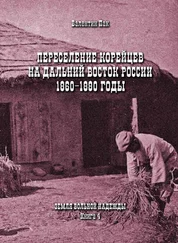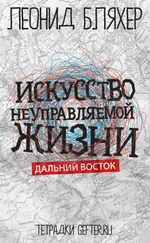По пути к намеченной цели, согласно замыслу Корсакова, предстояло энергично заселить край, ликвидировать в нём все «бесполезные» учреждения, предоставить генерал-губернатору право разрешать важнейшие вопросы своей властью, в столице же создать особый Комитет по Амурскому краю. Однако, будучи армейским генералом, Корсаков счёл излишним как устройство на берегах Японского моря полноценного военного порта, так и содержание там самостоятельного флота. Более того, ему показалось вполне разумным упразднить Сибирскую флотилию, с продажей её судов частным предпринимателям. Взамен предлагалось учредить морскую станцию в Новгородской гавани и небольшие мастерские при владивостокском деревянном доке, выстроенном капитан-лейтенантом А.А. Этолиным. Но если ликвидация флотилии допускалась Морским министерством, в связи со значительным сокращением его бюджета в 1867 году, то намерение Корсакова полностью подчинить себе начальника станции, тем самым устранив неудобства, вызываемые двойным подчинением командующего Сибирской флотилией, совершенно не устраивало Главное Адмиралтейство. Понимая, что расхождение во взглядах может похоронить его планы, генерал-губернатор изложил свои соображения во всеподданнейшей записке от 17 декабря, отправив её копию великому князю Константину Николаевичу. Император Александр II, добросовестно прочитывавший все поступавшие к нему бумаги, без долгих размышлений одобрил многие предложения Корсакова и повелел передать записку в Комитет Министров. Последний же, на заседании 7 января 1869 года, постановил отправить её на отзыв в министерства: морское, военное, внутренних дел и финансов.
В соответствии со сложившейся к тому времени практикой, для всесторонней и основательной оценки предлагаемых мер Д.А. Милютиным 24 февраля 1869 года была назначена комиссия под председательством генерал-лейтенанта И.С. Лутковского, с участием представителей других ведомств. На протяжении марта-апреля, собравшись несколько раз, она обосновала большинство одобрительных резолюций императора, тем самым положив начало череде ведомственных преобразований в Приморской области. Административный центр последней был перемещён в Хабаровку, поэтому военным губернатором впредь назначался исключительно сухопутный генерал. В Южно-Уссурийском крае учреждалась должность пограничного комиссара. Однако упразднения Сибирской флотилии не произошло. Напротив, при реформировании, морская часть, согласно высочайших повелений от 16 и 22 февраля 1871 года, была изъята из ведения генерал-губернатора с присвоением её начальнику статуса главного командира портов Восточного океана. Базу флотилии перенесли во Владивосток. Речные суда при этом пришлось передать вновь учреждённому Товариществу амурского пароходства.
Не получилось и «энергичного заселения» края. Если в беспокойном 1868 году Амурская и Приморская области приняли 641 русского и 1415 корейских переселенцев, в 1869-м соответственно 70 и 5000, то в 1870-м всего 80 русских, да и тех одна Амурская. Затем переселение на Дальний Восток приостановилось. Крестьяне предпочитали оседать в Западной Сибири, Средней Азии, на Северном Кавказе. К 1879 году русское земледельческое население Приморской области насчитывало всего 3018 душ обоего пола, тогда как общая численность жителей, включая войска, достигала 73.217 человек 93. Если учесть, что казаки, часть которых именно тогда перебралась с берегов Уссури на земли между Турьим Рогом и Суйфуном, вели преимущественно натуральное хозяйство, а крестьяне по ряду причин не могли похвастать высокой производительностью, то становится понятным, почему им, вместе с 5895 корейцами, едва удавалось кормить полтора десятка тысяч солдат, матросов, офицеров и чиновников с членами их семей.
Возможно, такое положение сохранялось бы на протяжении многих лет, однако Кульджинский кризис заставил правительство вспомнить о нуждах Дальнего Востока. Ещё в 1871 году, когда восстание мусульманских народов на западе Китая стало угрожать спокойствию среднеазиатских владений России, император Александр II санкционировал оккупацию Кульджинского (Илийского) края. Но вместе с тем, по рекомендации Министерства иностранных дел, дано было обещание вернуть эти земли прежним хозяевам по усмирении восстания. К 1878 году китайские войска подавили сопротивление мусульман, и Пекин поставил вопрос о возвращении Кульджи. Собственно, судьба её обсуждалась в Петербурге, начиная с 1876 года, однако принять какое-либо конкретное решение мешали расхождения во взглядах представителей военного ведомства и дипломатов.
Читать дальше