Возможно, что перед мятежным воображением Бакунина стояли благородные разбойники мелодраматического типа вроде Робина Гуда или шиллеровского Карла Моора. Да Бакунин и сам поминает его в брошюре «Начало революции»:
«Дела, инициативу которых положил Каракозов, Березовский и проч., должны перейти, постоянно учащаясь и увеличиваясь, в деяние коллективных масс, вроде деяний товарищей шиллерова Карла Моора…» И тут же деловито прибавляет:
«…С исключением только его идеализма…»
От Герцена не ускользнуло своеобразное революционное тщеславие Бакунина.
— Бакунин, — сказал он Огареву, — как старые нянюшки и попы всех возрастов, любят пугать букой, сами хорошо зная, что бука не придет. Для чего все это делается — неизвестно; но думаю, что на том основании, на котором купец, строивший на свой счет Симоновскую колокольню, поставил одно условие — быть выше Ивана Великого хоть одним вершком…
Без сомнения, Герцен еще больше укрепился бы в этом своем мнении о Бакунине, если бы знал, что в случае успеха социальной революции и установления анархического общественного строя Бакунин сохранял за собой пост «незримого кормчего» в тайной диктатуре, скрытой от народа. И как пример для подражания Бакунин приводил организацию ордена иезуитов.
В то же время независимо от этих соображений о иерархии, которая в любой стране и во всякое время существует в эмигрантских кругах, как, впрочем, в каждой стае живых существ, будь то, например, галки или шимпанзе, — Герцен понимал, что призыв к разбою не только выбрик честолюбия Бакунина и уж во всяком случае не оговорка и не случайная прихоть вулканического темперамента. Нет, это одна из заповедей, которую Бакунин вещает человечеству и внес в программу основанного им «Альянса социалистической демократии».
«Мы понимаем революцию в смысле разнуздания того, что теперь называют дурными страстями…»
Герцен тщетно старался вырвать Огарева из его восторженного поклонения разбойничьим тезисам Бакунина. Этот кроткий фанатик возражал Герцену своим медовым голосом:
— Террор, предполагавшийся декабристами, был беспощаден. Ты все пугаешься перед словом «разбой» или «грабеж».
Герцен выходил из себя:
— Ты думаешь, что призыв к скверным страстям — отместка за скверну, делающуюся в России, а я думаю, что это — самоубийство партии. Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных страстей…
Но может быть, еще большим заблуждением Бакунина Герцен считал его стремление превратить людей чаемого социалистического общества в «мешки для пищеварения». Он был возмущен перспективой потребительского социализма.
— Что Бакунин так старается стереть личность? — восклицал он. — Он проповедует совершенное уничтожение собственности и семьи — но ведь это вздор, — и это было бы действительно возвращение в обезьяны и в скуку однообразия, которую человечество, по своему фантастическому элементу, не вынесет… Горе бедному духом и тощему художественным смыслом перевороту, который из всего былого и нажитого сделает скучную мастерскую, которой вся выгода будет состоять в одном пропитании, и только в пропитании.
Невысок. Лоб низкий. Рот изредка подергивает судорога. Глаза черные, огненные. Иным становилось не по себе, когда этот взгляд останавливался на них, сосредоточенный огонь их пугал. Но бывало и наоборот: привлекал, манил, покорял. Пятидесятипятилетний Бакунин, сам мальчишеская натура, подчинился влиянию двадцатидвухлетнего Нечаева. Поверил всем его небылицам, что он якобы совершил дерзкий побег из Петропавловской крепости, что за ним в России стоит мощная революционная организация, что Россия созрела для восстания…
Призывая к террору, Бакунин стремился взрастить в людях революционный дух. А тут — этакое везенье! Такой дух возник перед ним в готовом виде, как говорится, в сборе, в комплекте: Нечаев.
Бакунин называл его «тигренок». И когда Нечаев нервно ходил по комнате, развивая свои всесокрушающие теории, старый тигр провожал его ласковым взглядом.
Огарев присоединился к восторгам Бакунина, который говорил о Нечаеве:
— Они прелестны — эти юные фанатики, верующие без бога.
И добавлял, что рабочие — «это единственный мир, в который я верю на Западе, точно так же, как у нас в России — в мир мужицкий и грамотный мир беспардонных юношей».
Огарев принес стихи «Студент» с посвящением: «Моему молодому другу Сергею Нечаеву». Там были, между прочим, такие строки:
Читать дальше
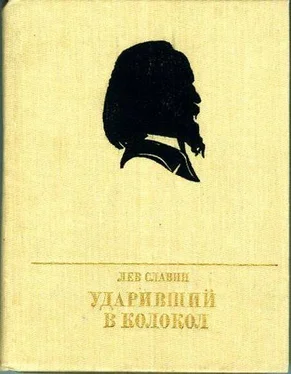











![Лев Славин - Два бойца [сборник]](/books/410972/lev-slavin-dva-bojca-sbornik-thumb.webp)