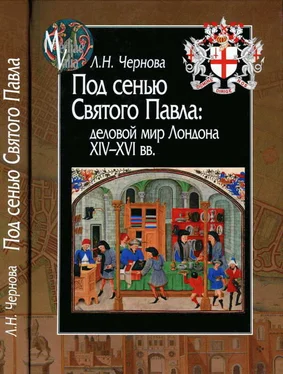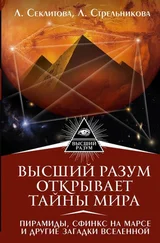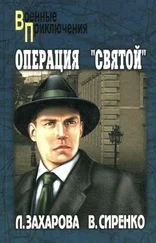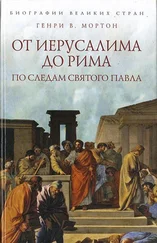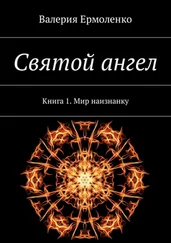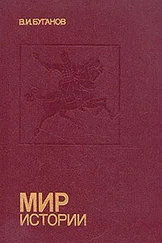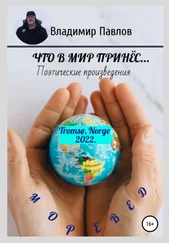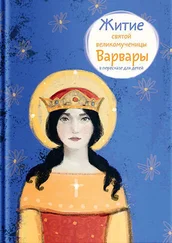О.В. Дмитриева обратила внимание на то, что часто мезальянсы с богатыми купеческими наследницами и вдовами имели место при повторных браках, когда тот или иной представитель аристократии уже имел от жены-дворянки наследника, и чистота рода была обеспечена {1126} . Либо, добавим, на богатых горожанках женились младшие отпрыски дворянских фамилий, как было, например, с дочерью Томаса Блэдлоу, бакалейщика и олдермена второй половины XV в., сочетавшейся браком с младшим сыном барона Бэрнса {1127} . В любом случае интерес к купеческим дочерям и вдовам со стороны титулованного английского дворянства не был случайным явлением. Желание поправить финансовое положение при этом проступало весьма отчетливо. Удивительно яркое свидетельство тому — история графа Стаффорда, который безуспешно уговаривал богатого лондонца отдать дочь за его сына и даже прибегал для этого к посредничеству олдермена и самого лорда Берли! Горожанин же отказывался и заявлял, что выдаст дочь за человека одного с ним рода занятий {1128} . Показательно, что этого лондонца отнюдь не прельщал знатный титул графа, и он не стремился расстаться с частью своего имущества ради призрачных амбиций и соображений престижа. Столь непочтительное по отношению к графу поведение горожанина легко объяснимо. Рассматриваемый период был непростым временем для большинства представителей английской аристократии, владения которой являлись внушительными по размерам, но не были прибыльными. Томас Вильсон в конце XVI в. следующим образом оценил совокупный доход знати — двух герцогов (Бакингем и Солсбери), 18-ти графов (среди них — графы Оксфорд, Нортумберленд, Кент, Вустер, Эссекс, Линкольн, Ноттингем, Пемброк, Саутгемптон и др.), двух виконтов (Монтегю и Биндон) и 39-ти баронов (Берли, Дадли, Стаффорд, Огл, Дарси, Во, Виндзор, Берг, Кромвель, Комптон, Норрис и др.) — в 220 тыс. ф., что не превышало 2,5% дохода всего английского дворянства того времени и составляло в среднем чуть больше 3,5 тыс. ф. на каждого представителя титулованной знати {1129} . М.В. Винокурова справедливо замечает, что этот доход поступал с земель, в процентном отношении неизмеримо уступавшим тем обширным поместьям, которые находились в руках коммерчески настроенной части дворянства — джентри. Так, к концу XVI в. во владениях пэров Англии осталось менее 3% земли, которой они или их предки владели ранее {1130} . Преуспевали лишь единицы, большинство же сталкивалось с весьма серьезными проблемами [133]. В поисках дополнительных доходов аристократы пускались на различные, порой весьма рискованные и сомнительные, предприятия: одалживали деньги у кого только могли, не зная при этом, когда и как будут расплачиваться, под огромные проценты брали тысячные суммы у ростовщиков и банкиров Сити, не платили по долгам булочникам, сапожникам, портным и т.д. В такой ситуации важным способом продержаться на прежнем уровне было обращение к поддержке короны, а также вовлечение в предпринимательскую сферу деятельности. По наблюдениям О.В. Дмитриевой, во второй половине XVI — начале XVII в. 78% аристократических семейств в той или иной степени были заняты в коммерции: участвовали в паевых товариществах и торговых компаниях, вкладывали средства в кораблестроение, горнорудное производство и пиратство {1131} . [134]Однако коммерция была для аристократических фамилий, скорее, уступкой требованиям времени, нежели потребностью. В целом же их стиль жизни определялся традицией, которая практически для всех была связана с двором, что требовало соблюдения ряда условий: наличие многочисленных слуг, дорогого гардероба, а, в конечном счете, — немалых денег. Некоторые аристократы пытались использовать один из испытанных методов, а именно — браки с богатыми купеческими наследницами и вдовами. Это позволяло поправить материальное положение, вернуть прежнее благополучие.
Говоря о стремлении «родовой аристократии» породниться с «аристократией купеческой», Дж. Хоум обратил внимание на то, что по интенсивности этого процесса, степени общественного признания и значения взаимопроникновения купечества и дворянства Англия не знала себе равных, хотя аналогичные явления наблюдались во многих странах: Италии, Германии, Франции {1132} . В Англии вторжение дворян в сферу бюргерской экономики было открытым и массовым, прежде всего, со стороны мелких вотчинников, пополнявших разряд джентри, с которыми горожане были связаны общими или сходными хозяйственными, а зачастую и социально-политическими интересами. А относительно легкое проникновение богатых и влиятельных горожан в дворянство обеспечивалось тем, что последнее не составляло в Англии замкнутого наследственного сословия с юридически закрепленными правами и привилегиями, резко отграниченного от других социальных групп. Доступ в него был не только открыт, но и обязателен для свободных людей, обладавших определенным доходом. Факт происхождения из «благородного» сословия играл в Англии гораздо меньшую роль, чем на континенте {1133} . По замечанию О.В. Дмитриевой, прагматичным англичанам был чужд идеал «благородной бедности», они предпочитали, чтобы благородство выступало в обрамлении соответствующего состояния, а доспехи, увенчанные славой, дополнялись тугим кошельком {1134} . [135]Деловые качества и материальное благополучие зачастую ценились выше претензий на превосходство «по праву крови».
Читать дальше